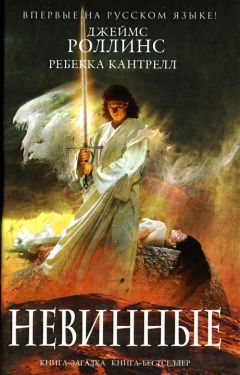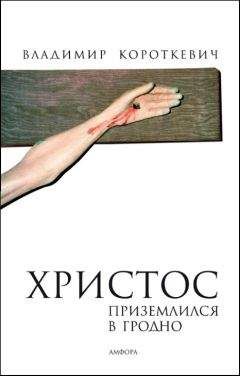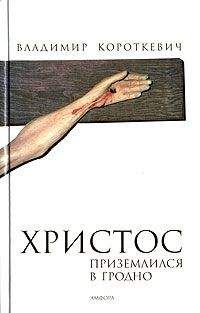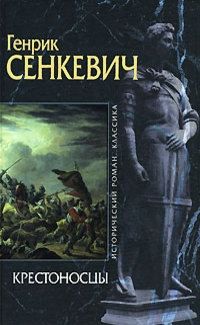Графиня, и сама на грани кончины, так долго голодавшая в этом каземате, подняла голову от горла отроковицы. Кровь каплями срывалась с ее белого подбородка. В серебристых глазах светилось сытое довольство — выражение, которое ему уже однажды доводилось в них видеть. Он не стал об этом задумываться, молясь, чтобы она достаточно отвлеклась, позволив ему покончить с этим, и чтобы ему достало сил свершить задуманное.
Потерпеть крах еще раз он не имеет права.
Рун склонился над ложем, отрывая ее исхудавшие члены от мертвой девочки. Бережно поднял холодное тело графини на руки и понес прочь от замаранной постели.
Она прижала свою щеку к его щеке, поднеся губы к его уху.
— Хорошо быть в твоих объятьях снова, — шепнула она, и он ей поверил. Ее серебряные глаза сияли ему. — Ты нарушишь свои обеты снова?
Она одарила его медленной, ленивой, магнетически прекрасной улыбкой. Корца ответил тем же, на миг попав под власть ее чар.
Он помнил свою любовь к ней, помнил, как в заносчивости возомнил, что смеет нарушить свою присягу сангвиниста, что может возлечь с ней, как обычный человек. Но, одержимый вспышкой вожделения, сплетенный с ней, войдя в нее, утратил контроль, позволив демону в себе порвать узы. Зубы впились в ее нежное горло, и он пил взахлеб, пока сей сосуд почти не опустел и лежащая под ним женщина ступила на смертный порог. Чтобы спасти ее, он обратил ее в чудовище, напоив собственной кровью, чтобы удержать ее с собой, молясь, чтобы она приняла те же обеты, что и он, и вступила в Орден сангвинистов.
Она не стала.
Шорох по ту сторону толстой двери вернул его к происходящему, к мертвой девочке на ложе и многим другим, разделившим ее участь.
Он постучал в дверь носком сапога, и слуги отперли засов. Рун толчком плеча распахнул ее, и дворня бросилась опрометью прочь по темным лестницам башни.
Оставив возле двери мраморный саркофаг, покоящийся на усыпанном тростником полу. Рун заранее наполнил гроб освященным вином и оставил его открытым.
Увидев, что ее ждет, она, все еще опьяненная жаждой крови, подняла голову.
— Рун?
— Это спасет тебя, — рек он. — И твою душу.
— Я не хочу спасать свою душу, — ответила она, вцепившись в него пальцами.
Не дав ей времени опамятоваться и оказать сопротивление, Корца поднял ее над открытым саркофагом и низринул в вино. Едва освященное вино коснулось ее кожи, графиня заверещала. Рун лишь сцепил зубы, зная, как ей сейчас больно, но даже сейчас желая избавить ее от страданий, приняв все на себя.
Она билась у него в руках, но в своем ослабленном состоянии не могла тягаться с ним силами. Вино расплескивалось, но он придавил графиню ко дну, не обращая внимания на отчаянное жжение вина. И радовался, что не видит ее лица, скрытого багровыми волнами.
И держал там, пока она наконец не затихла, перестав биться.
Теперь она будет спать до той поры, пока он не отыщет способ обратить вспять то, что наделал, вернуть жизнь ее мертвому сердцу.
Со слезами на глазах он поставил тяжелую каменную крышку на место, закрепив ее серебряными стяжками. Покончив с этим, прижал свои холодные ладони к мрамору и вознес молитву о ее душе.
И о своей собственной.
Рун медленно пришел в себя. Он полностью вспомнил, как оказался здесь, в заточении в том самом саркофаге, века назад ставшем ловушкой для графини. Припомнил, как вернулся к своему саркофагу, туда, где замуровал гроб в земном чреве глубоко под Ватиканом, укрыв свой секрет от всех глаз.
Он пришел сюда по слову пророчества.
Казалось, графиня еще должна сыграть свою роль на этом свете.
После сражения за Кровавое Евангелие он отважился в одиночку отправиться туда, где похоронил свой величайший грех. Разбил кладку, взломал печати на саркофаге и извлек ее из этой ванны древнего вина. Он представил, как ее серебряные глаза, открывшись впервые за века, встретились с его взглядом. В этот краткий миг он позволил себе утратить бдительность, мысленно перенесшись в давно прошедшие лета, во времена, когда тщился верить, что способен на нечто большее, нежели на самом деле, что подобный ему способен любить, не неся погибели.
И во время этих реминисценций не заметил, что она сжимает в руке обломок кирпича. И отреагировал слишком запоздало, когда она взмахнула твердым камнем с ненавистью, выпестованной за столетия, — а может, просто знал, что заслуживает этого.
А потом пришел в себя здесь и теперь постиг истину.
Она приговорила меня к этой темнице.
И даже отчасти понимая, что заслуживает этой участи, знал, что обязан освободиться.
Хотя бы потому, что именно он выпустил это чудовище в ничего не подозревающий мир.
И все равно представлял ее такой, какой знал когда-то, — такой полной жизни, всегда под яркими лучами солнца. Он всегда звал ее Элисабетой, но теперь история окрестила ее иным именем, зловещей эпитафией.
Элисабета Батори — Кровавая Графиня.
02 часа 22 минуты
по центральноевропейскому времени
Рим, Италия
Как приличествует ее благородному происхождению, апартаменты Элисабета выбрала роскошные. Высокие сводчатые окна заслоняли толстые занавеси алого бархата. Дубовый пол под ее хладными стопами сиял мягким златом и дышал теплом. Она устроилась в кожаном кресле из тщательно выделанной кожи, источающем утешительный аромат давно умершего животного, пробивающийся сквозь химический запах.
На столе красного дерева передней чадил белый огарок, готовый вот-вот угаснуть. Она поднесла к его умирающему огоньку свежую свечу. Как только фитиль занялся, вдавила высокую свечу в мягкий воск предыдущей и склонилась к огоньку, предпочитая его свет резкому сиянию, полыхающему в современном Риме.
Она присвоила эти покои после убийства предыдущих жильцов. Потом обшарила выдвижные ящики, полные незнакомых предметов, в попытке постичь это странное столетие, собрать по кусочкам упущенную цивилизацию, изучая ее артефакты.
Но не все ключики к этому веку она нашла в ящиках.
Свет свечи играл на неровных кучках разных предметов, разложенных по столу, собранных из карманов и с трупов ее жертв. Она сосредоточила внимание на горке, увенчанной серебряным крестом. Протянула к ней руку, избегая, однако, прикосновения к яростному жару металла и благословения, которое он несет.