Лионель дал знак остальным из его отряда спешиться и пройти в палатку. Богатое убранство произвело на него впечатление, он обменялся взглядами с Мерритом и несколькими своими товарищами и, выбрав самое удобное кресло, уселся.
Сняв перчатки и шлем, он положил их на пол рядом с креслом и устроился поудобнее, поставив ноги на обтянутую кожей подставку. На его черных волосах играли мягкие блики света, проникавшего в палатку через вход, все еще не закрытый; он поправил сбившуюся на сторону прядь. Зато нож у него на поясе поблескивал довольно зловеще в тех же утренних лучах. Лионель лениво поглаживал его рукоятку, пока другие устраивались на коврах, покрывавших пол. Меррит уселся в кресло рядом с Лионелем, его простодушное лицо приобрело напряженное и тревожное выражение. В центре палатки стоял человек с чашей.
Когда Брэн и Гильом вошли в шатер, появился последний из торентцев — знаменосец, и лицо его было бледнее белого флага. Ему не нужно было пить снотворное, и только он и тот, кто держал чашу, имели уверенность, что вернутся в Кардосу.
Лионель посмотрел на пятерых воинов, расположившихся у его ног, и дал знак человеку с сосудом обнести каждого из них. Когда чаша дошла до Меррита, первый из выпивших зелье уже спал, распростершись на полу. Человек с чашей задержался было, а Меррит даже привстал, глядя на тех, кто уже сделал свой глоток, но Лионель покачал головой, призывая его не мешкать. С глубоким вздохом Меррит подчинился и вскоре откинулся в кресле, закрыв глаза. Когда все затихли, человек с чашей опустился на колени перед Лионелем и подал ему питье. Лионель спокойно взял чашу и еще раз осмотрел ее.
— Они все хорошие люди, милорд, — сказал он, глядя на Брэна. — Они доверили мне свои жизни, и мне хотелось бы верить, что им ничто не угрожает. И если только они зря положились на мое слово, если кому-то из них будет причинен какой-то вред — клянусь, я отомщу даже из могилы. Понимаете?
— Я тоже дал слово, милорд, — холодно сказал Брэн. — Я сказал, что никто не причинит им вреда. Можете положиться на мое слово, вам нечего бояться.
— Я не боюсь, милорд, я вас предупреждаю, — мягко произнес Лионель. — Смотрите же, сдержите свое слово.
Взглянув напоследок на чашу, он приподнял ее и, прошептав молитву, поднес к губам. Сделав глоток, он вернул чашу и откинулся в кресле, поеживаясь, как от холода, хотя в палатке было тепло. Потом его голова безвольно опустилась на спинку кресла. Человек, подававший чашу, опустился на колени и пощупал его пульс. Убедившись, что все в порядке, он встал и поклонился Брэну Корису.
— Если вы готовы, нам следует отправляться, милорд. Впереди трудный путь, большую часть которого придется проделать в ледяной воде. Его величество ждет.
— Да, конечно, — ответил Брэн, надевая шлем. Он не мог не оценить дисциплину, царящую у людей Венцита, глядя на спящих заложников.
— Смотрите же за ними, Кэмпбелл, — сказал он, надевая перчатки и покидая палатку. — Венцит ждет их в добром здравии, и не будем разочаровывать его.
Глава IV
«И отдал тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства»[4]
Кардосская крепость лежала четырьмя тысячами футов выше равнины Восточной Марки, на высоком каменистом плато. Это была резиденция графов, герцогов, а порой и королей. С запада и востока крепость была защищена Кардосским перевалом, и только через коварное ущелье Рильских гор можно было подойти к ней.
Каждый год поздней осенью, в конце ноября, с северного моря приходят снега, занося ущелье и отсекая город от остального мира до самого марта, до конца зимы. А потом Кардосский перевал еще на три месяца превращался в бурлящий ледяной водопад.
Но это еще полбеды. Дело в том, что из-за особенностей рельефа доступ к городу с востока открывался несколькими неделями раньше, чем с запада, — именно поэтому город так часто переходил из рук в руки. Потому и Венциту Торентскому довольно легко удалось взять этот город — Высокую Кардосу, истощенную предшествовавшей летней кампанией и занесенную снегом, Кардосу, которой не могло прийти на помощь гвиннедское войско. Венцит воспользовался этим, и Кардоса пала.
И вот сейчас Брэн Корис со своим эскортом подъезжал к ее воротам, а новый хозяин города, расположившись в здании магистрата, готовился к приему высокого гостя.
Венцит Торентский, хмурясь, поправлял высокий воротник своего камзола. В двери постучали, и он быстро накинул на плечи бархатный, расшитый золотом плащ и пристегнул к поясу кинжал с украшенной жемчугом рукояткой. В его холодных голубых глазах светилась досада.
— Войдите!
Бесшумно на пороге появился долговязый молодой человек лет двадцати четырех и отвесил глубокий поклон. Как и все придворные, Гарон носил блестящую сине-фиолетовую ливрею Фурстанского Дома, с черным оленем, вышитом в белом круге на левой стороне груди. На нем сверкала серебряная цепь — знак того, что он входит в состав личной свиты короля Венцита. Он с живым интересом наблюдал, как его царственный повелитель, взяв какие-то бумаги со стола, скатал их в трубочку и убрал в кожаный футляр. Тихим и учтивым голосом он произнес:
— Граф Марлийский здесь, государь. Могу ли я впустить его?
Венцит кратко кивнул, пряча последнюю бумагу, и Гарон, не говоря ни слова, удалился. Оставшись один, Венцит сложил руки на груди и стал нервно расхаживать взад и вперед по ковру, покрывавшему пол комнаты.
Венцит Торентский был высоким, худым, вернее, даже тощим человеком сорока с лишним лет, с ярко-рыжими волосами и бледными серо-голубыми, почти бесцветными глазами. Густые и длинные рыжие усы подчеркивали широкие скулы и треугольную форму лица. Двигался он с легкой грацией, необычной для человека такого сложения.
Враги, которых у Венцита было немало, называли его лисом, если не употребляли слов покрепче. Венцит был чистокровным колдуном Дерини, потомком древнего рода, правившего на Востоке еще до Реставрации и позже, во времена жестоких гонений на Дерини. И не случайно Венцита называли лисом. Добиваясь своего, он становился коварным и жестоким и был опасен, как настоящий хищник.
Однако Венцит умел произвести впечатление, он знал, как уменьшить тот ужас, который невольно охватывал многих при встрече с ним. Вот и сегодня он очень тщательно подбирал одежду. И камзол из бархата и шелковая рубашка были в тон его волос, и эффект еще более усиливало золотое шитье и топазы — на шее, в ушах и на пальцах. Мантия из золотистого шелка мягко ниспадала с плеч и переливалась, колыхаясь при ходьбе.
На краю стола, за которым он обычно работал, лежала корона, украшенная драгоценными камнями, излучающими, казалось, яркий свет.
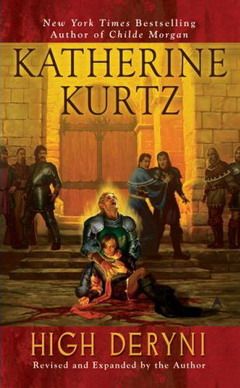
![Кэтрин Куртц - Дерини. Трилогия [ Возрождение Дерини. Шахматы Дерини. Властитель Дерини]](https://cdn.my-library.info/books/57361/57361.jpg)

![Кэтрин Куртц - Хроники Дерини.Книга 1. [ Возвышение Дерини.Шахматная партия Дерини]](https://cdn.my-library.info/books/53556/53556.jpg)

