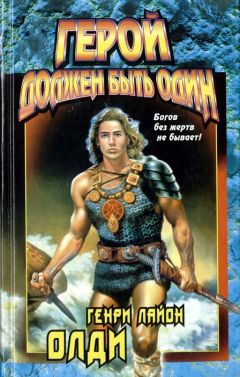Лихас сразу понял, о чем речь: еще в Трое Иолай не смог удержаться, чтобы не забрать в качестве добычи найденную в одном из дворцовых хранилищ колесницу – легкую, отнюдь не боевую, специально предназначенную для конных ристаний и напоминающую поставленную на колеса раковину с тонкими боковыми поручнями, которые сходились к центру.
Махнув рукой ближайшим гребцам, Лихас побежал к кораблю – и вскоре колесница вместе с полным набором упряжи (после долгого общения с Иолаем предусмотрительность парня не имела границ) была доставлена.
– Коней!
– Ты чего, Иолайчик?! – взволнованно забормотал Лихас. – Ты поостынь-то, водички попей… откуда кони? Мы в Трое никаких коней не брали… их, копытастых, на борт – никак, Иолайчик, невозможно!
– Я сказал – коней! Лихас, объясни местным: если на их трижды благословенном Косе не отыщется пары приличных лошадей – запрягу, кого попало!
Лихас объяснил.
Он очень старался – справедливо предполагая, кого бешеный Иолай первым станет запрягать.
Выяснилось, что пара более-менее сносных лошадок на острове есть – их в свое время непонятно зачем привез покойный басилей косцев Эврипил – но животных собирались днем принести в жертву бывшему хозяину во время огненной тризны.
– Я их сам принесу в жертву, – Иолай говорил тихо, но многим казалось, что уж лучше бы он кричал. – Сам! Немедленно! Эврипилу… кому угодно! Ну?!
Дважды уговаривать косцев не пришлось.
И часа не прошло, как низкорослые мохнатые лошадки были доставлены и запряжены.
Иолай прыгнул в колесницу и стал разгоняться почти от самого моря, правя на скалу.
Колеса вязли в песке, лошади надрывались с истошным ржанием, но и гребцы с кораблей, и жители Коса не могли отделаться от ощущения, что сумасшедшая колесница с сумасшедшим возничим летит, несется, мчится с такой скоростью, что взгляд не успевает увидеть всю картину целиком, выхватывая лишь детали: оскаленные конские морды, вскинувшийся возница, взметнувшийся бич, песчаный смерч у колеса…
Колесница врезалась в скальный разлом и исчезла.
Совсем.
Ни обломков, ни грохота… ничего.
Скала себе и скала.
Камень, плесень, лишайник.
Остров Кос.
Лишь тусклые нити поплыли по воздуху, словно от разорванной паутины; лишь дробное эхо плеснуло из трещины, словно копыта били о камень все дальше… дальше… тишина.
– Он – бог? – потрясенно спросил у Лихаса один из косцев.
– Хуже, – ответил Лихас.
12
Пахло бойней.
Сырым мясом, медленно оседающей пылью, ледяным потом, смрадом захлебнувшегося воя, грязной деловитой смертью с окровавленными по локоть руками… бойней пахло.
Лопнувшие нити Дромоса хлестнули по глазам, ослепив, заставив зажмуриться, Иолай еще не успел понять, что прорвался, что скачет, скачет, машинально удерживая равновесие, ослабив поводья, слившись с озверевшими лошадьми и ожившей раковиной на колесах; он еще только учился видеть заново, еще только начинал дышать воздухом вместо жгучей ярости, с птичьим клекотом рвавшей грудь кривыми когтями – а кто-то долгим прыжком уже метнулся к нему в колесницу, ударил напрягшимся телом, вырвал вожжи… они оба вывалились за поручни, покатились по горячей земле, враг изворачивался гадюкой, но Иолай все-таки подмял его под себя, навалился, прижал, не сумев схватить за руки…
И почувствовал, что ему нахлобучили что-то на голову.
– Слезь с меня, придурок! – прохрипел враг удивительно знакомым голосом.
Иолай послушно встал, медленно ощупал навязанный ему силой головной убор…
Шлем.
Древний шлем давно забытой формы, напоминавший неглубокую перевернутую миску с кольцом бугорков вокруг центра, с закрывавшим затылок куском плотной кожи, с узким наносником; по размеру – в самый раз.
Шлем.
– Что там, Гермий? – спросили издалека.
– Ничего, – отозвался Гермий, поднимаясь и отряхиваясь. – Небось, где-то Дромос сам по себе открылся, а тут колесница… сшибла меня, зараза!
И уже Иолаю, свистящим шепотом:
– Не снимай шлема! Если тебя увидят здесь, на Флеграх – все, конец! Понял?
Повторять дважды не понадобилось.
Иолай и так успел заметить, что Лукавый шепчет, не глядя в его сторону – и не потому, что скрытничает, а потому, что и сам не видит.
Шлем Владыки, о котором поют рапсоды.
Ведь даже само имя «Аид» испокон веку означает – «невидимый».
…В пяти шагах от Иолая лежал мертвый человек.
Нет, не человек.
Или все-таки?
Необычайно крупный подросток – десять лет? двенадцать? пятнадцать?! – похожий одновременно на уродливого бога и прекрасного зверя, на чье лицо нельзя было смотреть без содрогания; так иногда при встрече с неведомым не знаешь: молиться ему или бежать от него.
Рядом с израненным телом подростка – все-таки, если не вглядываться пристально, он больше походил на дитя человеческое – валялись разбросанные стрелы со светло-сизым оперением и лук.
Лук из дерева и рога.
– Эврит? – одними губами выдохнул Иолай, понимая, что и этот труп – уже не Эврит Ойхаллийский, а просто падаль.
Лукавый кивнул.
Иолай нагнулся, запрокинул покойному голову и долго смотрел на перерезанное горло.
Потом пнул сандалией коченеющую руку с зажатым в кулаке ножом.
– Если это был Эврит, то он успел убить себя сам, – Иолай чувствовал, что сейчас сорвется на крик. – Мертвецы не режут себе горло. Ты видел его тень, Лукавый?!
– Да? – удивленно спросил Гермий непонятно о чем.
И Иолай понял, что юноша-бог чудом удерживается, чтобы не упасть.
Он подошел к шатающемуся Гермию, полуобнял его – Лукавый со вздохом благодарности оперся о подставленное плечо – и обвел взглядом Флегры.
Выжженную равнину, где над телами уродливых детей стояла Семья.
Зевс-Бротолойгос, по-воровски проникший в спальню Алкмены и потом лишь раз позволивший себе встретиться с Амфитрионом лицом к лицу – когда лавагет умирал под Орхоменом; Посейдон-Энносигей, стоявший в фиванском переулке над поднимающимся с колен мужем любовницы Громовержца; Гера-Аргея, пославшая ядовитых змей, лишь чудом не доползших до двух восьмимесячных младенцев; Арей-Эниалий, чью дорогу заступил некогда смертный внук Персея, сбив бога в кровавую грязь; Аполлон-Эглет, скорый на расправу лучник, схватившийся с разъяренным Гераклом в Дельфах; чумазый молотобоец Гефест, веселый пьяница Дионис, девственная охотница Артемида…
И мудрая Афина, которая лишь сегодня станет Палладой[73] – вот она нагнулась над мертвым Гигантом, над ребенком по имени Паллант, и кривым лезвием стала деловито снимать с покойного кожу, чтобы позже обтянуть ею свой щит.
Боги стояли над Гигантами; выжившие жертвы – над покойными жрецами.