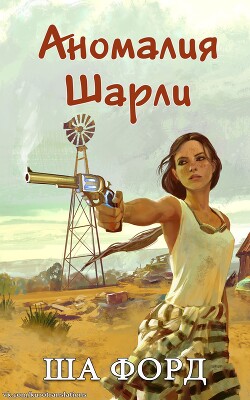Тем, кто теперь сгорбился в траве, тряся плечами и обхватив голову руками.
— Ральф?
Он посмотрел на меня, и белки его глаз были такими же красными, как его метка. У него все лицо было влажным, и вряд ли от пота.
— Уходи, Шарли, — хрипло сказал он. Когда он снова заговорил, его слова звучали прерывистым шипением. — Пожалуйста… просто оставь меня.
Я не собиралась этого делать. Он должен был знать, что я не собиралась оставлять его, потому что он не выглядел удивленным, когда я плюхнулась рядом с ним на колени.
— Ральф… какого черта ты здесь делаешь?
— Ничего.
— Я думала, ты уехал в Опал?
— Должен был. Я собрал чемодан и вышел ждать, пока за мной приедет машина. Это произошло только ближе к закату, а когда это произошло… — Ральф вырвал пучок сорняков и отбросил их в сторону, — когда показалась та машина, мистер Блэкстоун опустил окно, и он… он смеялся надо мной. Потом он просто уехал и бросил меня.
— Ну да, Говард — задница, — яростно сказала я. — Просто забудь о нем.
— Я не могу забыть это, — простонал Ральф. Он потянулся к еще пучку сорняков, и я могла сосчитать каждую выемку на гребне его позвоночника. — Это был первый раз… это был первый раз за всю мою жизнь, когда я подумал, что могу выбраться отсюда. Я никогда еще нигде не был, Шарли.
— Я знаю.
Когда Ральф родился, он выглядел дефективно. Из-за крошечного, хрупкого тела и отметины на лице он даже не выходил из парадных дверей Лаборатории. У него никогда не было семьи, он никогда не садился обедать за кухонный стол. Он никогда не знал, каково это — лежать на ковре с чистым листом бумаги и коробкой красок и рисовать, глядя телевизор.
Ральфа взяли из метро и поместили в лабораторию. Впервые он вышел, когда мы переехали в Страшную гряду.
— Некоторое время ты жила в Далласе, но я никогда не знал ничего другого. Никогда ничего другого не делал. Я никогда раньше даже не видел травы, — он крутил сорняки между руками, прерывисто дыша. — А после того, как мистер Блэкстоун уехал, я… я просто хотел это увидеть, понимаешь? Я просто хотел иметь это. Так что я пошел. Теперь я не хочу останавливаться.
Часть меня — маленькая эгоистичная часть — была рада, что Ральф вернулся в Гранит. Есть немного большая часть меня, которая была очень зла, хотела извинений. Она хотела, чтобы он сожалел о том, что бросил меня. Она хотела, чтобы он признал, что был ужасным другом, и поклялся, что никогда больше не бросит меня.
Но последняя часть меня говорила громче всех. Самая большая часть. Остальная часть меня. И когда она услышала всю боль в голосе Ральфа, мое сердце сжалось так, будто я тонула в Баке.
Неважно, насколько я была эгоистична или зла, боль Ральфа убивала меня.
— Я не хочу останавливаться, — снова сказал он с умоляющим взглядом. — Я просто хочу гулять. Я хочу ходить, пока не смогу уже ходить.
— Хорошо, тогда не будем останавливаться, — сказала я. Моя голова все еще пульсировала, а ладони жгло, будто в обеих руках у меня были трехфутовые языки пламени. Но я почти не замечала этого.
Сейчас во мне циркулировал другой вид адреналина. Это скорее была линия, чем гейзер: линия тонкая и хрупкая, как паутина. Я никогда раньше не говорила о том, чего хотела, я очень много думала об этом, но у меня никогда не хватало смелости сказать это вслух. То, чего хотел Ральф, всегда было для меня важнее, и он хотел остаться в Далласе. Он хотел, чтобы мы продвигались вверх и были настолько Нормалами, насколько это было возможно.
У меня не было никакого интереса ни к работе, ни к Далласу, ни к попыткам вести себя Нормально. Я хотела уйти — и знала, что глупо было хотеть покинуть город с неприступной стеной, но именно этого я хотела.
Мои сны о Ничто… они казались такими реальными, приходили ко мне так живо, что казались скорее фактами, чем снами. За пределами Далласа был мир, и его стоило увидеть.
Ральф впервые сказал что-то о своем желании уйти, и это придало мне смелости, чтобы высказаться.
— Мы можем идти сколько угодно долго — вплоть до океана. Мы можем жить на пляже. Сделать дом из песка или что-то в этом роде. Я не знаю, из чего люди на пляже строят свои дома, но мы с этим разберемся, — я скривилась, пока говорила, вынося все эти хрупкие вещи на открытое пространство и к ногам Ральфа. — Мы сможем делать все, что захотим. И не будет иметь значения, что мы неполноценные, потому что рядом не будет никого, кто бы напомнил нам об этом. Мы сможем просто быть… счастливыми.
Свежие слезы покатились по его лицу, и на полсекунды мне показалось, что он согласится пойти со мной. Затем он посмотрел на меня и сказал:
— Это глупо, Шарли. Мы даже не можем пройти через Выход.
— Мы можем. Ты мог бы разгадать…
— Даже если бы я мог, я бы не стал, — он прикусил нижнюю губу и перевел взгляд на стену. — Я больше не хочу этого делать. Я… я закончил, хорошо? Я сдался, — он сделал серию панических прерывистых вдохов и добавил. — Я… больше… не хочу!
Я знала, что происходило. Когда Ральф начинал вот так дышать, это значило, что он был близок к потере сознания.
— Ладно-ладно. Нам не нужно проходить через Выход. Я поговорю с Говардом, хорошо? Я посмотрю, смогу ли я убедить его дать тебе шанс…
— Нет! Я — все!
Я попыталась схватиться за его костюм сзади, но Ральф оттолкнул мою руку. Он упал на четвереньки и потащил свое тело через сорняки — грудь тяжело вздымалась, а глаза были устремлены к ближайшему слою потрескивающей синей энергии. Без кислорода он далеко не уйдет. Три, может, четыре фута. Затем он упал лицом в грязь.
— Я закончил… Я закончил…
Я осторожно легла рядом с ним. Я хотела коснуться его. Глядя, как его слезы падают на траву, я ощущала желание обнять его за плечи. Чувство было настолько сильным, что почти переполнило меня. Я не выдержала:
— Эй? Что, черт возьми, на тебя нашло?
— Ничего, — прорычал он.
— Ну, должно быть что-то. Ты никогда не плачешь…
— Это ты, ясно? Это ты, — выдавил он. — Ты просто всегда… там. Стоишь в моем дверном проеме. Хочешь поговорить со мной. Сделать все для меня. И каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вспоминаю, — его лицо сильно сморщилось. — Я вспоминаю, какой я бесполезный. Насколько на самом деле бессмысленна моя жизнь.
Я не понимала, что он говорил.
— Ты не бесполезен.
— Я такой. Я могу умереть, и всем будет наплевать.
— Это неправда, — твердо сказала я. — Мне было бы не наплевать. Ты нужен мне, Ральф. Если ты умрешь, это убьет меня.
— Нет, ты будешь в порядке.
— А как насчет того, что произошло в прошлом году, а? Когда ты упал и перестал дышать? — одной мысли о том, как выглядел Ральф, когда я увидела его, плюхнувшегося на грязный пол в гостиной, с выпученными глазами и посиневшими губами, хватило, чтобы снова разбить мне сердце. — Ты чуть не умер, а я…
— Да, может, ты должна была позволить мне! Потому что, черт побери, смысла жить нет, — его губы оторвались от зубов в рычании. Влага покрыла зелень его глаз. — Ты должна была просто позволить мне, — выдохнул он. — Почему ты просто не дала мне умереть?
Я не знала, что на это сказать. Я была в шоке.
Самые страшные секунды в моей жизни случились, когда Ральф перестал дышать. Это было посреди ночи. Никто не был рядом, чтобы помочь нам. Он выскользнул из моих рук и начал биться в конвульсиях на полу — и я не знала, что делать.
Я мало что помнила о том, что произошло дальше. Я только помнила, как била его в грудь изо всех сил, вонзая кулак в плоть над его сердцем. Снова и снова, пока он, наконец, не проснулся, резко вдохнув.
Позже Говард увел меня в комнату и потребовал, чтобы я рассказала ему, как я узнала, как это сделать — как, без какой-либо медицинской подготовки, я узнала, как бить Ральфа в грудь? У меня не было для него ответа, по крайней мере, такого ответа, которому бы он поверил. И я получила билет на Растяжку для наказания.
Но мне было все равно. Мне было все равно, потому что Ральф был жив — и это все, что имело для меня значение.