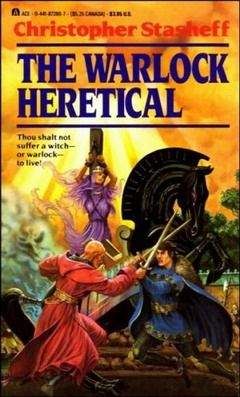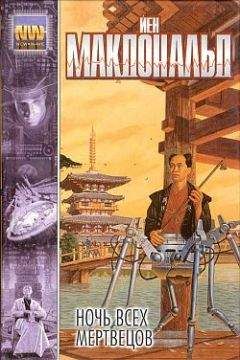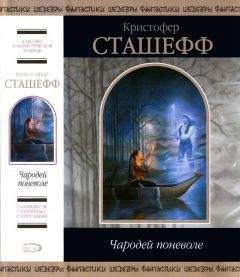— Верно, но ведь и с болезнью не стоит затягивать. В конце концов, когда я был маленьким, меня учили именно этому — грех наносить вред своему телу, потому что оно вполне может оказаться храмом Господним.
— И это тоже верно. Однако не истолковывай моих слов превратно, — аббат помрачнел еще больше. — По сравнению с вечностью тело — прах. Лишь душа нетленна.
Трудно было не указать на логический прокол — доводы аббата могли бы легко использоваться, как оправдание угнетения, но Род сдержался — он здесь для того, чтобы воссоединять, а не противопоставлять.
— Разве Господь не учит нас, что в здоровом теле — здоровый дух?
— Учит, но не думай, что тело и душа одинаково важны.
— Но милорд, вы же не утверждаете, что тело должно быть рабом души?
Вот теперь-то они дошли до сути — кто должен править? Церковь или Корона?
— Не рабом, — поправил аббат, — но слугой. Ибо, безо всякого сомнения, тело должно во всем подчиняться душе.
Тупик. Род глубоко вздохнул, стараясь придумать другой подход.
— А что, милорд, если заболеет душа?
— Тогда она должна прийти в церковь и исцелиться!
Да, и среди средневековых священников встречаются отличные психологи. Род обратил внимание, что аббат ведет спор по кругу, упрямо отказываясь делать выводы из его же собственных аналогий.
— Но пока душа не исцелена, милорд, она ведь может искалечить тело, разве нет?
Тут Роду живо вспомнился случайно увиденный однажды больной шизофренией — нечесаный, небритый, в рваных тряпках.
Должно быть, аббат тоже когда-то видел что-то похожее, потому что заметно погрустнел.
— Действительно, но ведь мы говорим сейчас не о теле человеческом, а о теле политическом.
Аналогии ему больше не подходили, и он решительно отбросил их.
— Да, и мы говорим о Церкви, а не о чьей-нибудь отдельной душе. Бывали времена, когда Церковь, если так можно сказать, болела — раскалывалась на секты с различными верованиями.
— Ереси укоренялись, да, и наносили вред великий, прежде чем быть выкорчеванными, — сердито ответил аббат. — И тем больше причин искоренять их — огнем и мечом, если понадобится!
Он явно перебрал, и Род затаил дыхание.
— Но заповедь гласит: «Не убий».
— Заповедь не распространяется на гнусных искусителей, пытающихся сбить чада Господни с пути истинного! — отрезал аббат. — Уж не хочешь ли ты стать одним из них?
— О нет, милорд аббат, я не собираюсь искушать людей отвернуться от истинной Церкви.
Лицо аббата окаменело.
— Любой подобный раскол в Церкви приведет лишь к бедам и несчастьям среди простого народа, который и составляет ее тело, — мягко продолжал Род. — И я умоляю вас, милорд аббат, сделайте все, что в ваших силах, чтобы предотвратить такой раскол.
Секретарь, стоявший за спиной аббата, впился в собеседников горящими, как угли, глазами.
— Не в наших силах подобные деяния, — отозвался аббат ледяным тоном. — Единство Греймари покоится в руках Их Величеств… и великих лордов.
От этого намека на гражданскую войну у Рода похолодело внутри.
— Но вы — целитель душ, лорд аббат. Неужели вы не можете найти путь, чтобы тело Греймари снова стало единым?
Секретарь шагнул вперед, даже протянул руку, но спохватился.
— Мы не предпримем ничего, что послужило бы против интересов простого народа, — сухо ответил аббат, — или против интересов Короны — учитывая, конечно, что Их Величества будут править в согласии с христианской добродетелью.
Что значило — Церковь не станет возражать против Туана и Катарины до тех пор, пока они будут делать то, что скажет Церковь. Нет, этого мало.
— Милорд аббат хочет сказать, что Греймари может быть воссоединена только в том случае, если Их Величества отрекутся от Римской Церкви и признают Греймарийскую Церковь, как единственно истинную?
Аббат недовольно поморщился.
— Ты столь же неуклюж, сколь и бестактен. Я предпочту сказать, что не будет ни нашего благословения, ни благоволения любому правителю, придерживающемуся веры, которую мы сочтем лживой.
— Даже если и добродетели и вера — одни и те же, не считая того, кто отдает приказы, — Род попытался подавить нараставший в нем гнев. — Но разве вы не согласны, милорд аббат, — жизненно важно, чтобы Церковь служила прибежищем для людей на тот случай, если Корона впадет в тиранию?
Ага, теперь уже не гранит — настороженное внимание. Аббат обнюхивал приманку.
— Так оно и есть. Церковь всегда противостояла беззакониям и лордов, и короля. Признаюсь, меня удивляет, что ты придерживаешься такой же точки зрения.
— Если бы вы знали меня ближе, это вас не удивило бы. Тем более, что из этой точки зрения вытекает следующее — если в тиранию впадет Церковь, то убежищем для людей должна стать Корона.
Лицо аббата побагровело.
— Никогда не бывать такому! Слуги Божьи не могут быть жестокосердными! Лишь они могут уповать, что неподвластны сему греху!
— Конечно, но ведь они — только люди, — Род не сдержал улыбки. — Даже священник может поддаться искушению.
— Куда меньше, чем лорд или король!
— Не спорю, — Род развел руки. — Но если так все же случится, милорд, не важно ли, чтобы Корона была способна защитить своих подданных?
Аббат, прищурившись, уставился на Рода.
— Церковь должна быть отделена от Государства, — негромко проговорил Род, — точно так же, как Государство должно быть отделено от Церкви. В этом и лежит подлинная защита народа.
— Умоляю, не учи меня, как заботиться об общем благе, — огрызнулся аббат. — Пропитание для бедных всегда составляло предмет нашей особой заботы.
— И да пребудет так и далее, — благочестиво добавил Род.
— Пребудет, — лорд аббат поднялся с достоинством айсберга. — В этом я тебе ручаюсь. Или ты хочешь от меня большего?
Это был вызов, а Род знал, когда нужно остановиться.
— Благодарю вас, милорд. Вы дали мне все, что я мог ожидать.
А что он мог ожидать, кроме дурных предчувствий? Род постарался не подавать виду, встал и поклонился аббату, который коротко кивнул в ответ. Брат Альфонсо шагнул к дверям. Выходя за порог, Род покосился на секретаря и замер при виде его еле заметной, но торжествующей улыбки. Род кивнул ему головой.
— Весьма поучительно было познакомиться с вами, брат Альфонсо.
— Надеюсь, мы еще увидимся, — промурлыкал тот.
М-да, не очень благоприятная беседа, думал Род, пока послушник вел его к воротам. Особенно, когда он вспомнил — аббат ни разу не назвал его ни лордом Чародеем, ни просто милордом.