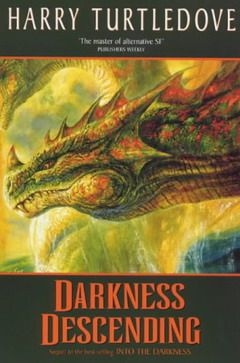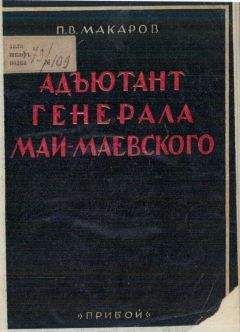— Добрый день, моя дорогая, — промолвил он на безупречном валмиерском. — Что случилось? По вашему лицу вижу, что нечто серьезное.
— Я хочу, — без обиняков заявила Краста, — чтобы ты запретил им рушить Колонну побед.
— Я-то гадал, когда вы узнаете. — Лурканио по-альгарвейски многозначительно повел плечами. — Ничего не могу с этим поделать. И, — в голосе его зазвучали металлические нотки, — не стал бы делать, даже если б мог. Эта колонна оскорбляет честь Альгарве.
— А как же честь Валмиеры? — осведомилась маркиза.
— Какая честь? — переспросил Лурканио. — Если бы Валмиера обладала честью, вы сдержали бы натиск альгарвейской армии. То, что мы ведем беседу в сердце покоренной державы, то, что вы привечаете меня на своем ложе, а не моя супруга — валмиерского завоевателя, доказывает, у кого из нас больше чести. А теперь, прошу, позвольте мне вернуться к работе. У меня очень много дел и слишком мало времени. Закройте за собой дверь.
Краста в бешенстве захлопнула за собой дверь с такой силой, что вздрогнул особняк. Неспособная выместить свой гнев на Лурканио иным способом, она закатила скандал прислуге. Не помогло. Два дня спустя Колонна каунианских побед рухнула. Услыхав грохот рвущихся ядер и гром расколотого камня, маркиза принялась ругаться так, что позавидовал бы биндюжник.
Когда Лурканио тем вечером попытался навестить ее на ложе, его встретила запертая дверь. Краста продолжала запирать спальню целую неделю, но в конце концов смягчилась: отчасти потому, что заскучала по радостям плоти, но больше потому, что опасалась оттолкнуть от себя Лурканио и бросить его в чужие объятья. Ей не хотелось оставаться без защитника-альгарвейца. Такая уж жизнь пошла в Приекуле. Что это говорило о ее собственной чести — маркиза не задумывалась.
* * *
Гаривальд уже крепко нагрузился, когда в дверь заколотили.
— Ну что такое? — раздраженно рявкнул он.
Как большинство жителей Зоссена, крестьянин сумел утаить от альгарвейского гарнизона достаточно самогону, чтобы продержаться до весны. Чем еще можно заняться зимой, как не пить?
Дверь содрогнулась вновь.
— Открывать или мы ломить! — заорал альгарвеец.
— Аннора, открой, — буркнул Гаривальд.
Он сидел ближе к дверям, чем жена, но та была немного трезвей. Сам крестьянин не был уверен, что сможет подняться на ноги. Аннора кисло глянула на него, но засов подняла. Поразмыслив, Гаривальд все же встал, пошатываясь, за ее спиной — мало ли что этим альгарвейцам в голову придет?
Стоявшие на пороге рыжики замерзли до синевы; тонкие их плащики не годились для зимних холодов.
— Вы, — бросил один из них сердито, — идти на плошадь.
— С какого шута? — поинтересовался Гаривальд и только тут заметил, что оба не только вооружены, — это вообще были парни не из зоссенского гарнизона. Крестьянина затрясло — и не от холода. Это были настоящие фронтовики, злые, как вепри. Он тут же пожалел, что огрызнулся.
Тот, что заговорил, ткнул жезлом Гаривальду в лицо:
— С той шута, что я сказал!
— Ладно-ладно, — поспешно промычал Гаривальд, склонив голову, точно перед ункерлантским инспектором, и, чтобы скрыть страх, прикрикнул на Аннору: — Пошевеливайся, ты! Что встала? Тулупы тащи!
Аннора спорить не осмелилась. Оба накинули теплые овчинные тулупы; Гаривальд понадеялся, что альгарвейцам не придет в голову раздеть их.
— Сиривальд, присмотри за сестрой! — наказала Аннора.
Мальчик закивал, от испуга выпучив глаза. Только безмятежно игравшая на грязном полу Лейба не поняла, что происходит нечто неладное.
Когда Гаривальд с Аннорой вышли на деревенскую площадь, та уже начала заполняться. Под прицелом еще нескольких альгарвейских солдат трое или четверо крестьян пытались установить посреди площади какую-то деревянную раму. Гаривальд не сразу понял, что это такое… Виселица. Его снова передернуло от ужаса.
Обок виселицы стояли двое незнакомых ункерлантцев со связанными за спиной руками. Оба были небриты, измождены и, кажется, избиты — у одного лицо было в запекшейся крови, у другого заплыл глаз. Их тоже держали на мушке солдаты.
Мимо прохромал староста Ваддо. За ним шли альгарвейцы из зоссенского гарнизона, перепуганные едва ли не меньше жителей деревни.
Один из новоприбывших альгарвейцев, как оказалось, неплохо владел ункерлантским.
— Эти жалкие сукины дети, — рявкнул он, указывая на пленников, — из вашей вонючей деревни? Мы схватили их в лесу. Кто-нибудь знает их? Может назвать по именам?
На миг воцарилась тишина. Потом весь Зоссен заговорил хором. В один голос все уверяли, что в первый раз видят незнакомцев. Поскольку все знали, что случается в деревнях, где привечали партизан.
Рыжик тоже это понимал.
— И почему я должен вам верить? — осведомился он с ухмылкой. — Вы еще скажете, что ваши мамаши не были шлюхами! Надо бы снести вашу поганую дыру хотя бы ради развлечения!
Судя по его голосу, он готов был приказать своим солдатам именно так и сделать.
Все как-то разом обернулись к Ваддо. Староста готов был разрыдаться, но поступил так, как от него требовал долг, — и самым смиренным тоном, какой только слышал из его уст Гаривальд, воскликнул:
— Смилуйтесь, сударь!
— Смиловаться? — Запрокииув голову, альгарвеец разразился хохотом. Он бросил короткое слово на своем наречии — должно быть, перевел солдатам — и те заржали тоже, верней затявкали, как волки. — Милости просишь? — повторил рыжик. — Да что сделал хоть один ункер, чтобы заслужить милости?
— Эти люди не из нашей деревни. — Ваддо ткнул пальцем в связанных пленников, как только что альгарвеец. — Силами горними клянусь! Не верите мне, сударь, спросите ваших солдат, что у нас не один месяц прожили. Они-то знают!
— Он сдаст бедолаг альгарвейцам, — шепнул Гаривальд жене.
— Иначе он бы нас всех на расправу отдал, — ответила Аннора.
Гаривальд неохотно кивнул. Не хотел бы он оказаться в валенках Ваддо, даже за все золото мира.
А еще он пытался понять, не напрасно ли Ваддо отдает на расправу захваченных в лесу партизан. Альгарвеец все еще готов был приказать своим палачам стрелять на поражение. Но тут вмешались солдаты из зоссенского гарнизона. Говорили они, само собой, по-альгарвейски, так что Гаривальд ни слова не понял, но когда физиономия командира фронтовиков омрачилась, позволил себе понадеяться. По лицам альгарвейцев всегда можно было понять, что у тех на уме — еще одна причина, по которой захватчики казались крестьянину странными, едва ли заслуживающими человеческого имени.