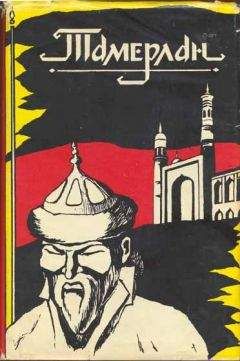— Чьи это стихи? — спросил Элронд, слушавший молча и с неослабным вниманием.
— Их написала женщина из моих мест, — ответил Гарав. — А я перевёл на адунайк.
— Ты не только певец, но и поэт?
— Слишком большое слово для меня — поэт, — признался мальчишка. — А петь я раньше и вовсе не умел.
— Спой ещё что-нибудь, — как ни в чём не бывало предложил Элронд.
В Гараве шевельнулось недовольство: да у них мания просто. Встретился в лесу, где кругом гауры, с шеститысячелетним эльфом — пой, блин! Других забот нет. Встретился с Элрондом — пой снова, а как же?!
Гаравом овладело вредное ехидство. Он прокашлялся, посмотрел в потолок и запел на широко известный в далёких краях и неведомый здесь мотив:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и гор,
Эту землю дружно выбираем,
Фиг нам нужен этот Валинор!
От Нэвраста до Оссирианда,
С Мглистых гор до харадских пляжей
Феаноринг возит контрабанду
В виде копий, луков и ножей!
Если враг отрезать нам захочет,
Скажем, руку в яростной борьбе —
Феаноринг весел и находчив:
У него все это на резьбе…
Это Мы! Сковали Сильмариллы!
Это Мы! Склепали Палантир!
Мы сильны, как юные гориллы,
И умны, как старый Митрандир!
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и гор,
Эту землю дружно забираем,
Впереди нас — батька Феанор![9]
Исполнив это, Гарав с запоздалой опаской посмотрел на Элронда. Но Владыка Раздола… хохотал — почти беззвучно, но искренне, запрокидывая голову и придерживаясь рукой за перила.
— Вообще-то такие они и были, — вдруг сказал он. — Но знаешь… — И он строго приложил палец к губам мальчишки. — Не превращай умение смеяться над великим и великими в ремесло. Один раз — можно. А если это войдёт в привычку…
— Прости… — пробормотал Гарав. — Я понимаю.
— Надеюсь.
— Понимаю, — уже уверенно кивнул Гарав. — Прости, мастер Элронд. И вот… послушай ещё…
Эту песню пел в деревне у фородвэйт Эйнор. Гарав просто перевёл как-то на привале…
Отцовское наследство мы добыли,
Его у нас теперь не отобрать.
Но обжигают руки Сильмариллы…
Как страшно мы с тобой ошиблись, брат!
Нам Клятва жить спокойно не давала.
Сражаться в ослеплении своем
Готовы были мы хоть против Валар,
Хоть против мира целого — вдвоем.
Никто на нас оружие не поднял,
Никто нам к бегству путь не преградил.
Но не уйти ни от огня в ладонях,
Ни от огня отчаянья в груди.
Так значит, пали зря отец и братья?
Мы Право потеряли, зло творя.
Убийства в Альквалондэ, в Дориате…
Шесть сотен лет войны и крови — зря?!
Над Средиземьем битвы пролетели,
Лик мира изменил Великий Гнев,
Среди равнин открылись в бездну щели,
Вихрь огненный бушует в глубине.
Но пламя — то, что сжечь мне руку хочет,
И то, что сердце жжет, — сильней стократ.
Сегодня — День Свершения Пророчеств.
Я ухожу в огонь. Прощай же, брат![10]
— Что ж, ты и правда понял, — как ни в чём не бывало подытожил Элронд. — А теперь пойдём. Нас ждёт важный разговор.
* * *
В небольшой затемнённой шторами комнатке, куда привёл Гарава Элронд — очевидно, в одной из башен, мальчишка и не понял толком, куда они зашли по коридорам, лестницам и залам, — в трёх удобных креслах (четвёртое пустовало), сделанных из плотной ткани, натянутой на причудливо выгнутый каркас из тёмного дерева, по сторонам от пылающего камина алого камня сидели, глядя на вошедших, три старика, закутанные в разноцветные балахоны. Рядом с каждым стоял длинный посох с причудливым навершием.
Гарав узнал Гэндальфа, который дружелюбно кивнул мальчишке. И отвесил поклон — всем сразу. Двух других стариков он не знал: один — крючконосый, сухолицый, с проницательными горящими глазами, в белом балахоне; другой — в коричневом, намного ниже ростом, но зато моложе двух других, широколицый, плечистый, похожий на сержанта из голливудского фильма про Вьетнам.
— Расскажи всё, что было с тобой в Ангмаре. Подробно, — негромко попросил Элронд, занимая пустующее кресло. Гараву сесть не предложили, и он ощутил себя неуютно — как будто под четырьмя прицелами. Он понял, что это — настоящий допрос. И глубоко вздохнул: что ж…
…Когда Гарав закончил говорить, ноги у него подкашивались, а перед глазами всё плыло. Он с трудом дышал нормально и очень хотел опустить глаза — если честно, казалось, что его надели живьём на четыре пары раскалённых нитей, пронизывающих комнату.
— Мальчик сейчас упадёт, — сказал Коричневый Балахон. — Сколько можно, всё совершенно ясно.
— Неудивительно. — Гэндальф вдруг улыбнулся и, встав, указал Гараву на своё кресло.
— Я… — Мальчишка залился краской, переступил с ноги на ногу. — Я благодарю, но… — И обнаружил, что сидит в кресле, а в правой руке у него — большой кубок с чем-то прозрачным и приятно пахнущим. Гарав машинально переложил кубок в левую руку и отпил. У прозрачной прохладной жидкости — не вина — был вкус мёда, но без его приторности и густоты — и усталость отступила, а голова прояснилась.
— Мальчик левша, — заметил Белый Плащ… — И Гарав вдруг понял: да это ж Саруман!!! Он же… или не сейчас? Нет, наверное, он ещё не предатель… А ну, перестань думать!
— Хочешь сказать о печати проклятья? — Гэндальф начал широко расхаживать по комнате, шурша балахоном. — Левши, косые, беспалые, хромые… рыжие ещё. Про рыжих не забудь. Они для нашего дела самые вредные.
Но Саруман неожиданно засмеялся — суховато, но искренне:
— Хочу всего лишь сказать, что он опасный противник в схватке.
— Армия Ангмара стоит в десяти лигах от мостов. Дальше не идут, на наш берег не переправляются, — заметил Элронд. — Общая численность войск Ангмара примерно сто — сто десять тысяч. Против нас выставлено около тридцати. Впечатление такое, что нас хотят просто напугать… и сковать на случай каких-то иных действий.
— Я так и не понял, при чём тут искажённая майа, — сказал Коричневый Балахон.
Гэндальф досадливо отмахнулся:
— Совершенно ни при чём, как ни при чём и мальчик. Очевидно, что он — чист, а Ломион Мелиссэ просто решила в очередной раз развлечься. Если хочешь узнать о ней подробней — отыщи Виндэ-ог-Виндана,[11] он как раз тут, и будет рад услышать, что его старая знакомая какбыжива.