— Это в любом случае не имеет значения, — пробормотал Джилре себе под нос. — Чисто теоретический вопрос. У меня больше нет выбора — только долг и ответственность, с которыми я буду справляться все хуже и хуже. Боже, лучше бы я умер поскорее!
Он не успел договорить эти горькие слова, как Симон вскочил на ноги и, мгновенно одолев разделявшие их несколько футов, схватил его за больную руку. Джилре громко вскрикнул. Но Симон уже встал рядом с ним на колени, задрал рукав, стянул перчатку и осторожно провел пальцами по распухшему запястью.
— Что это? — проворчал он, затем перевернул руку, увидел черное пятно на внутренней стороне и присвистнул. — Почему ты не сказал, что болен?
Джилре сглотнул, чувствуя себя загнанным в ловушку, и попытался отнять руку.
— Оставь меня. Пожалуйста. Какая тебе разница?
— Для тебя это может означать жизнь! — огрызнулся старик, и взгляд его приковал юношу к месту.
— Как это началось?
— Я упал... упал с коня несколько месяцев назад, — против воли начал объяснять Джилре. — Думал сначала... что это просто скверное растяжение такое, но потом... появилась опухоль.
— Болит сильно?
Джилре наконец сумел отвести взгляд и, уставя в землю невидящие глаза, со вздохом кивнул.
— Скоро... я не смогу это больше скрывать, — с трудом вымолвил он. — Я не могу удержать меч, не могу...
Как ни старался он не думать об этом, но старая мечта вновь ожила в памяти: вот он в облачении священника, идет служба, он поднимает потир... Он затряс головой, чтобы прогнать видение.
Нет у него больше выбора. Никогда не сбудется мечта; он даже хорошим господином не сможет стать для своих подданных. Для него закрыты все двери. Пока не появилась эта чернота на руке, он не думал всерьез о смерти, но, наверное, ему действительно лучше умереть.
— Что еще ты не можешь делать? — мягко, но настойчиво спросил Симон. — Ведь есть что-то, чего ты действительно хочешь больше всего на свете?
— Наверно, я хочу другой судьбы, — прошептал Джилре и уткнулся головой в колени, не пытаясь больше отнять у Симона руку. — Я мог сделать это еще прошлой весной, когда был здоров, и от меня зависело, какое решение я приму. Но сейчас у меня нет выбора. Я умру. Пока об этом никто не знает, кроме домашнего врача, но скоро узнают все, — он поднял полные слез глаза и посмотрел на больную руку. — Когда была возможность, мне не хватило храбрости последовать зову сердца — а теперь я даже воле отца не могу последовать и быть достойным правителем для его подданных, когда его не станет.
Он отрешенно уставился в пространство перед собой, но тихий вздох Симона вернул его к действительности.
— Я не могу помочь тебе принять решение, Джилре, зато могу помочь с рукой, — сказал старик. — Это будет больно, но опухоль расти перестанет.
Джилре сглотнул комок в горле, боясь дать волю надежде.
— Хотелось бы верить, но это невозможно, — с трудом выговорил он. — Джилберт сказал, опухоль вернется, и будет чем дальше, тем хуже. Можно отрезать руку — это поможет, если я выживу в результате — но что это даст? Я все равно не смогу вести ту жизнь, которую выбрал бы, будь мне это дано...
— Выбор есть всегда, сынок, — ответил Симон тихо, но так убедительно, что Джилре не удержался от того, чтобы снова посмотреть на него. — Если ты сейчас выберешь мою помощь, перед тобой может снова открыться тот выбор, которого ты так желаешь. Что ты теряешь?
И правда, что я теряю? — подумал Джилре, глядя старику в глаза и чувствуя легкое головокружение. И вслед за тем, словно его заставила действовать некая сила извне, он обнаружил вдруг, что вынимает левой рукой кинжал из ножен и протягивает его старику рукоятью вперед, а потом он встал, по знаку Симона снова накинул на плечи плащ и поднялся по алтарным ступеням.
— Садись сюда, — шепнул старик, подталкивая его в левую сторону.
Джилре, придерживая меч у правого бока, опустился на холодный мрамор, прислонился спиной к каменной плите и расправил плащ. С северной стороны алтаря намело снегу, и Симон, оттянув ему рукав, зарыл больную руку в сугроб для того, чтобы она онемела. Юноша не сопротивлялся. Солнце уже наполовину склонилось к закату — неужели прошло столько времени? — но свет его, когда Джилре опустил голову на мраморную плиту, ударил прямо в глаза и заиграл золотыми отблесками на лезвии кинжала, которое Симон протирал в это время подолом своей на удивление чистой серой нижней рубашки.
От холода руку заломило еще сильней, чем от опухоли, и тогда Симон развернул ее внутренней стороной кверху и провел рукой по тому месту, которое надлежало вырезать.
— Не смотри на это, — сказал он и отвернул захолодавшими пальцами голову Джилре. — Смотри на закат, думай о чем-нибудь. Любуйся облаками. Вдруг ты прочтешь в них ответы на свои вопросы.
От прикосновения старика мозг Джилре словно онемел, как и его плоть, и юноше показалось, что он странным образом отделился от своего неподвижного тела. Когда Симон снова взялся за больную руку и приставил к ней лезвие, Джилре собрался с духом и глянул все-таки туда, где сталь взрезала край черного пятна, которое он так ненавидел и боялся. На снег брызнула алая кровь, над нею в морозном воздухе закурился парок, и Джилре, отведя глаза, уставился в небо. Через несколько мгновений глаза его закрылись, и он уснул.
И снова оказался в церкви, но теперь она выглядела меньше, чем та, что привиделась в первый раз, была не больше часовни, а Джилре стал участником событий, а не наблюдателем — он шел по узкому нефу вслед за несколькими, такими же счастливыми, как он сам, юношами в белых одеяниях. Как и остальные, в правой руке он держал зажженную свечу, а левую прижимал благоговейно к покрывавшей его грудь дьяконской епитрахили. С другой стороны сидели в ряд люди, одетые в серые, а не в белые, как в первом видении, сутаны, но у некоторых из них волосы были так же заплетены в косу. А у подножия алтаря ждали два человека в полном облачении, в митрах.
Джилре и его сотоварищи опустились на колени у их ног — откуда-то он знал, что это епископ и аббат; старший из священников произнес какие-то неразборчивые слова, но Джилре ответ был известен. И он запел вместе с остальными юношами, поднявши свечи, и голоса их в этом святом месте зазвучали чисто и звонко.
«Adsum domine...» Вот я, Господи...
На этом видение задрожало и растаяло, к его великому сожалению, а потом он долго пребывал в пустоте и отрешенности, печалясь об утраченном и лишь смутно ощущая, как солнце согревает лицо, а спину холодит мрамор даже сквозь куртку и плащ, правая же рука, лежавшая на снегу, закоченела так, что ее он не чувствовал вовсе.
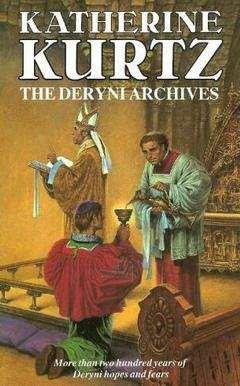

![Кэтрин Куртц - Дерини. Трилогия [ Возрождение Дерини. Шахматы Дерини. Властитель Дерини]](https://cdn.my-library.info/books/57361/57361.jpg)

