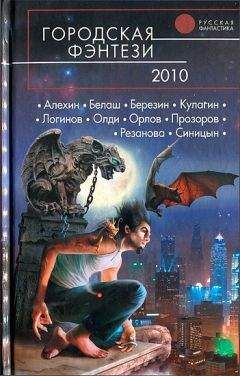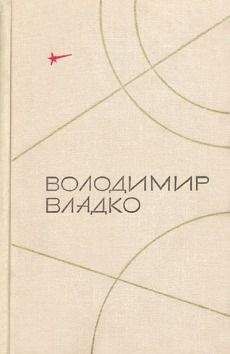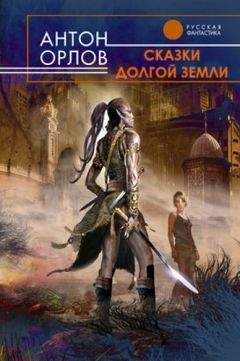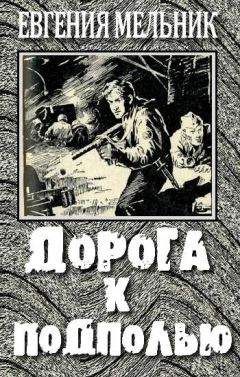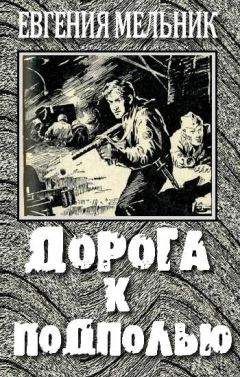Промышленник Епифаньев прожил долгую жизнь и щедро жертвовал на монастыри, строил церкви, что не помешало согражданам именовать его «семенем антихристовым». А на смертном одре он, говорят, превратился в крылатого змея и улетел. И токмо тень гада навсегда запечатлелась над местом поруганной благодати. По всей вероятности, эти слухи исходили из кругов нового поколения промышленников. Все они были старообрядцы, и для них Епифаньев был не только конкурент, но супостат истинной веры. Связанные круговой порукой, умело воздействуя на умы, ибо, преследуемые властью, овладели этим искусством в совершенстве, они вытеснили Епифаньева с ключевых позиций и если не довели до сумы и долговой ямы, то купеческую гордость, которая хлеще дворянской, поломали. Так что не пошло ему впрок добро князей Алатырских.
Хотя злорадствовать тут нечему. Старообрядцы тоже благоденствовали недолго. Вера запрещала им водку, табак, театры и карточную игру. Но они нашли игру поазартнее — швыряли деньги не на рулеточное колесо, а на революцию. И доигрались.
У всего, что случилось потом, были и положительные стороны. Например, здание кадетского корпуса передали библиотеке — тогда она была имени Крупской и лишь в последние годы в качестве патронессы заполучила Екатерину Балабанову.
Епифаньевской церкви тоже повезло — ее не взорвали и не превратили в склад. Там был музей народно-прикладного искусства, один из самых посещаемых в городе. Правда, недавно епархия вспомнила о ней и предъявила свои права. При том оказалось, что здание основательно обветшало и требует ремонта, а денег у городской казны, как водится, нет. Так что сейчас церковь заперта, но, говорят, весной начнут ремонтировать, а там и заново освятят… О том, что церковь эта — «неправильная», и о змее на крыше теперь никто не помнит. А может, сейчас не принято говорить о таких вещах.
Епифаньеву тоже повезло — посмертно. Он стал считаться образцом благотворителя. В его жизнеописании в сборнике «Именитые граждане», пару лет назад поступившем в библиотеку, ни слова нет о «семени антихристовом». И о разоренном князе Алатырском — тоже. Отчасти чтобы не затенять светлый образ промышленника, отчасти потому, что дворян, особливо титулованных, чтут нынче с еще большим трепетом, чем двести лет назад.
Поэтому о князе предпочли забыть.
Но, как выяснилось, не все.
В последующие дни я не видела Кутырина. Была моя очередь дежурить в отделе периодики. Там нет постоянного работника — никто не хочет идти, все сразу увольняются, наплевав на стаж, настолько безобразные в этом отделе условия. Но дирекция нашла выход — примерно раз в два месяца каждая из сотрудниц отправляется туда отбывать повинность сроком на неделю. Этот срок я мотала, помянув сладостным новым стилем тех итальянцев и аргентинцев, кто воспел труды в библиотеках. Романтики! Хуже библиотек (а особенно этого отдела с его неистребимым грибком, заражающим все со скоростью химического оружия) только архивы. Но воспевать архивы пока извращенцев не нашлось.
А по возвращении в родной отдел Петрова сказала мне:
— У этого Кутейкина…
— Кутырина.
— Тем лучше. У него, похоже, серьезные намерения.
— Ты про его книгу?
— Я про тебя. Он про книгу-то ни словом не обмолвился и по каталогам не шастал. Беседы мы с ним вели исключительно о тебе.
— Окстись, Нина. Это не смешно.
Раньше в библиотеку и впрямь заглядывали товарищи из разряда, в наших древних книгах именуемого «хлебоясть», — в поисках жены, «чтоб она меня содержала», со святой простотой говаривали они. Почему-то они были уверены, что стоит им ступить в пределы нашего бабьего царства, как на них бросятся ошалевшие от счастья соискательницы. К таковым предъявлялись, о чем сообщалось с порога, строгие правила — кормилица должна быть молода, красива, здорова, желательно блондинка, желательно девственница и ни в коем случае не иноверка-инородка. Над женихами издевались еще более жестоко, чем над охотниками за наследством Ивана Грозного. Но экономический кризис развеял идею поальфонсировать в библиотечных угодьях даже в самых задрипанных мужичках. А Кутырин к таковым никогда не принадлежал.
— Нет, правда. Он все о тебе расспрашивал. И откуда ты, и есть ли у тебя родственники, и сколько тебе лет… И знаешь, не у меня одной. Мне Охримчук из отдела кадров сказала.
— И ты, значит, всю мою подноготную и выдала.
— Нет, что ты! — вид у нее был смущенный, привирала, наверное. — Понимаешь, я вдруг сообразила, что толком не знаю о тебе ничего! Вот уж сколько лет мы с тобой работаем — пятнадцать, кажется…
— Больше.
— Видишь, больше пятнадцати — а не знаю. Ты вроде не по распределению сюда приехала.
— Нет. Просто жилплощадь поменяла.
— Ну, хоть не совсем память отшибло. И в отпуск ты никуда не ездишь, стало быть, родственников у тебя нет…
— В живых — нет. По крайней мере, я не слышала, чтоб кто-то остался.
Тема требовала выражения сочувствия. А сочувствие — трата душевных сил и времени. В наше время и то и другое расходовать нерационально, и Петрова предпочла свернуть разговор, удалившись к любимой «четверке», заброшенной за время моего изгнания. Я осталась за стойкой, перебирая карточки.
Серьезные намерения, как же! Только не матримониальные. В затененной стеклянной створке шкафа я видела то, на что избегала смотреть, — свое отражение. «Такие неуловимые, как бы нарочито стертые безглазые лица часто встречаются у людей Поволжья — под скучной невыразительной маской эти люди…»
Прервем цитату. Главное, что этот облик несопоставим с именем.
Когда пришел Кутырин, я сразу же сказала ему:
— Нехорошо, Александр Игоревич, расспрашивать о возрасте женщины. Не по-джентльменски.
Тон был легок, но он смутился. Даже, кажется, испугался. Что, в самом деле считал, что мне не передадут?
— Да я ничего дурного не имел в виду, Василиса Георгиевна…
Я поморщилась.
— Я думал, вы местная. Так хорошо знаете здешнюю историю, в подробностях. А вы, оказывется, тоже…
— Да, я приезжая. Но живу здесь давно.
— А говорят, Алтай — край сказочно красивый.
— Наверное. Не помню. Уехала и застряла здесь.
Не зря он крутился в отделе кадров.
— Почему?
— Потому что здесь много снега. Кстати, о сказочных красотах. Я почитала, что пишут о ваших огненных змеях. По-моему, все эти побасенки — просто выражение здравого народного смысла: чрезмерная скорбь по умершим губительна для здоровья. Но, конечно, авторы научных трудов таким простым объяснением не удовлетворяются. Они считают огненных змеев воплощением и символом мужского начала. Не случайно они женского пола не бывают, в отличие от всяческой другой нечисти.