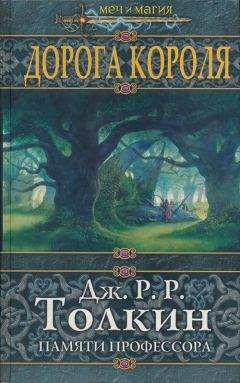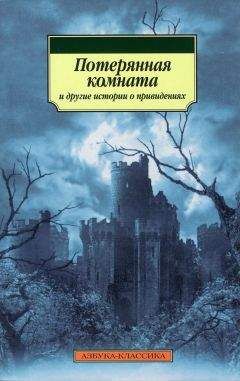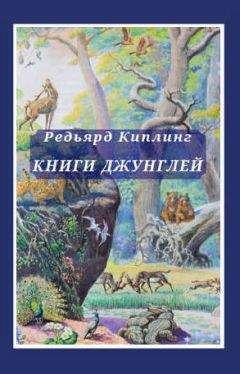Однако Рив не обратил на это замечание никакого внимания.
— Ты лукавишь, Кельвин, — сказал он. — Мой вопрос был отнюдь не таким философским. Так как же на самом деле умер Джиллет? Это ты его убил?
— Я? Да с какой стати! — Протест Кельвина был совершенно искренним. — Думаю, он сам призывал смерть. Ведь этот дурак умер, скорее всего, от разбитого сердца.
— Точнее, от тоски по прекрасной вдове Гюшетт… — предложил свой вариант Рив.
Во взгляде Кельвина мелькнула неуверенность.
— Да, возможно, и так.
— …на которой ты якобы женился, — продолжал как ни в чем не бывало Рив, — и которая на самом деле является твоей жертвой и пленницей, хоть и живет в собственном доме.
— Она действительно моя жена! — рявкнул Кельвин, не успев подумать. — Я просил ее руки. А в общественном одобрении своих намерений я не нуждаюсь. И в дурацком благословении церкви тоже. Я попросил ее стать моей, и она моя!
Рив сурово сжал губы; его прищуренные глаза смотрели жестко. Он явно боролся с желанием возразить Кельвину, однако же вместо этого почти ласково заметил:
— Я вижу, ты не возражаешь против моих слов о том, что дом этот принадлежит вдове?
— Тьфу ты! — сплюнул Кельвин. — Так тебя называют Рив Справедливый потому, что ты чересчур честный, или потому, что ты полный дурак? Между прочим, мне этот дом был передан магистратом прилюдно в качестве компенсации за ущерб, нанесенный мне ворюгой Рудольфом, ныне покойным!
Намерения Кельвина относительно Рива, о которых он не раз сообщал Джиллету, становились с каждой минутой все очевиднее. Вот уже несколько лет как Кельвин темной ночной порой в глубине своей черной души видел себя единственным достойным противником таких людей, как Рив. Он считал их самоуверенными нахалами, во все сующими свой нос и навязывающими всем свои воззрения на добродетель, которые им не стоят ничего, а вот их противникам — слишком дорого. Отчасти такое отношение к Риву Справедливому было связано с природной злобностью Дивестулаты, а отчасти с тем, что он отлично понимал: его многочисленные победы над людьми более слабыми, вроде Джиллета, достались ему слишком легко, тогда как, чтобы действительно почувствовать себя героем, ему нужны более достойные противники.
Тем не менее разговор с его давним и естественным врагом пошел совсем не в ту сторону, в какую хотелось бы ему самому. В его планы совсем не входила самооборона: он намерен был только наступать. Рассчитывая перехватить инициативу, Дивестулата снова заговорил:
— Впрочем, мои права на этот дом, как и мои права на вдову Гюшетт, тебя совершенно не касаются. Если у тебя и есть здесь какой-то законный интерес, так это Джиллет. И кстати, позволь спросить: по какому праву ты среди ночи прокрался в мой дом и в мой кабинет да еще и оскорбляешь меня неуместными вопросами и подозрениями?
Рив позволил себе улыбнуться. Надо сказать, улыбка вышла угрожающей. Совершенно не обратив внимания на слова Дивестулаты, он сказал:
— Мое прозвище, Справедливый, связано с качеством монет, то есть имеет отношение к количеству и качеству содержащегося в монете золота. Когда в монете золота нужной пробы сколько полагается, то говорят, что это «честные» или «справедливые» деньги. Ты, возможно, не знаешь, Кельвин Дивестулата, что честность любого человека проявляется в том, какой монетой он платит свои долги?
— Долги? — Кельвин, не сдержавшись, даже вскочил. Он просто не мог больше сдерживать охвативший его гнев. — Так ты явился сюда, чтобы вести со мной скучные разговоры о каких-то долгах?
— А разве не ты убил Джиллета? — спросил Рив.
— И не думал! Я много чего в жизни сделал, но этого невыносимого остолопа я не убивал! А вот твоими оскорблениями, — заорал он, чтобы Рив не вздумал его остановить, — я уже сыт по горло, и сейчас ты мне скажешь, зачем сюда явился, или я вышвырну тебя в окно и позволю своим собакам тобой поужинать! И никто не посмеет обвинять меня за то, что я столь жестоко поступил с преступником, вторгшимся без спросу в мой кабинет среди ночи!
— Тебе нет необходимости угрожать мне. — Самообладанию Рива можно было просто позавидовать! — Честным людям нечего меня бояться. А у тебя угроза прямо-таки на лице написана. Я ведь и так готов сказать тебе, зачем пришел. Я, Рив Справедливый, всегда прихожу по зову крови — крови родственной и крови возмездия. Кровь — вот та монета, которой я расплачиваюсь за свои долги; и той же монеты я требую в порядке возмездия. Да, я пришел за твоей кровью, Кельвин Дивестулата!
Уверенность, с какой говорил Рив, пробудила в душе Кельвина неведомое ему доселе чувство страха. И это страшно его разозлило.
— Так значит, ты за моей кровью пришел? — гневно вопрошал он. — А что я такого сделал? Почему ты требуешь моей крови? Говорю же тебе, не убивал я твоего проклятого Джиллета!
— И ты можешь это доказать? — спокойно спросил Рив.
— Конечно!
— Каким образом?
Дрожа от страха, какого он доселе не испытывал, Кельвин выкрикнул:
— Он все еще жив!
Глаза Рива разом померкли и больше не отражали пламени свечей, подобно блесткам слюды. Теперь они были темны и глубоки, как самые глубокие в мире колодцы. И Рив тихо спросил Кельвина:
— Что же ты с ним сделал?
Кельвин смутился. Одна часть его души твердила, что он одержал победу. Вторая знала, что он побежден.
— Он меня забавляет, — хрипло пробормотал Дивестулата. — Я превратил его в свою игрушку. И пока он будет забавлять меня, я буду продолжать с ним играть.
Услышав эти слова, Рив немного отступил от стола и голосом, неумолимым как голос судьи, объявляющего смертный приговор, промолвил:
— Ты только что признался в том, что незаконно бросил человека в темницу и пытал его. Что ж, теперь мне осталось созвать членов магистрата, перед которыми ты и повторишь свое признание. Возможно, одно честное признание вдохновит тебя, и ты признаешься также в иных преступлениях; например в тех, которые совершил по отношению к известной тебе вдове Гюшетт. Но не пытайся бежать, Кельвин Дивестулата. Ибо я буду преследовать тебя, если потребуется, вплоть до небесных врат или до адской бездны. Ты пролил кровь и расплатишься за это собственной кровью.
Еще несколько мгновений Рив Справедливый не мигая смотрел на Кельвина своими темными бездонными глазами, а потом молча повернулся и пошел к двери.
Невнятный вопль вырвался у Кельвина из горла. Он схватил первый попавшийся под руку предмет — бронзовое пресс-папье, достаточно тяжелое, чтобы раскроить человеку череп, — и швырнул в Рива.