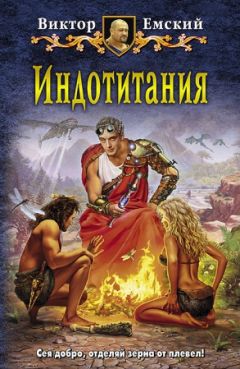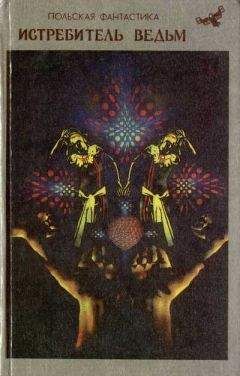ПРОФЕССОР. Язык мысли — интернационален.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. А если в той жизни я был слепоглухонемым, то это какой язык?
ЖОРА. Оно и видно.
ЛЕНЬКА. Куркуиловский.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. И где на нем говорят?
ЛЕНЬКА. В Куркуиловке.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. И вы меня понимаете?
ЖОРА.
ЛЕНЬКА.
ПРОФЕССОР.
КОНТУШЁВСКИЙ. Нет!!!
ХАСАН.
НЕМО.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. Странно. Эй, а где же вы?
Мыслемолчание
* * *
Следующее утро
ЛЕНЬКА. Оба-на!
ЖОРА. Что случилось?
ЛЕНЬКА. Выстроились по бригадам.
ЖОРА. Рабочие?
ЛЕНЬКА. Да. Много их. И в каждой бригаде — бензопила. Прорабы машут
руками и показывают, что надо пилить.
КОНТУШЁВСКИЙ. Матерь Божия! Ты услышала мои молитвы! Ты наградила меня
радостью! Нет — двумя. Спасибо тебе!
ЖОРА. Почему это радости у тебя две?
КОНТУШЁВСКИЙ. Одна — освобождение от древесного плена. А вторая та, что меня
срубят не первым.
ПРОФЕССОР. Какая разница? По-моему, лучше умереть сразу, чем ждать, мучаясь.
КОНТУШЁВСКИЙ. Ничего подобного. Пока до меня дойдут, я успею насладиться
предсмертными воплями бандитов, а потом — твоими. Пилить-то будут медленно. Ха-ха!
ЖОРА. Ни единого звука от меня не услышишь, сволочь!
КОНТУШЁВСКИЙ. Как бы ни так. Мысль — не крик. В теле не удержишь.
ПРОФЕССОР. Не переживайте. Согласно закону сохранения энтропии, не существует того, чтобы свет пожрал тьму и наоборот. Я это к тому говорю, что полного счастья в природе не бывает. В любой светлой материи при внимательном рассмотрении можно найти черные точки. Так и с Контушёвским. Я уверен, что ему достанется что-нибудь одно. А раз вы первые попадаете под пилу, то он, возможно, и насладится вашими мучениями.
ЖОРА. А дальше?
ПРОФЕССОР. А дальше — его не срубят.
КОНТУШЁВСКИЙ. Чушь!
ПРОФЕССОР. Ну-ну, посмотрим.
КОНТУШЁВСКИЙ. Тебя срубят раньше меня. Поэтому ты-то точно ничего не увидишь.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. А что такое — видеть?
ПРОФЕССОР. Это когда рабочий с бензопилой отвернется от Контушёвского и
начнет пилить деревья вокруг него. Тогда Контушёвский увидит только его задницу.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. Все равно не представляю себе…
ПРОФЕССОР. Контушёвский тоже пока не представляет. Но, когда это случится, представлять что-либо будет уже поздно.
ЛЕНЬКА. Лесорубы двинулись в лес.
КОНТУШЁВСКИЙ. Ура!
ЖОРА. Ленька, а ты далеко от опушки?
ЛЕНЬКА. Нет. Впереди меня только одна рябина растет.
ЖОРА. И где сейчас люди?
ЛЕНЬКА. Подошли к рябине и заводят бензопилу.
ЖОРА. Значит, ты — следующий?
ЛЕНЬКА. Да.
ЖОРА. Давай, хоть, договоримся, где встретимся.
ЛЕНЬКА. А как? Мы же ничего не помним, и помнить не будем.
ЖОРА. Неужели, даже стрелять придется друг в друга?
ЛЕНЬКА. Может быть. Но все равно потом мы обязательно встретимся…
ЖОРА. Конечно! Ты прости, если что не так…
ЛЕНЬКА. И ты прости. И спасибо тебе, что тогда, в Афгане, спас меня.
ЖОРА. Не за что. Ты бы сделал то же самое. Я знаю.
ЛЕНЬКА. Да, Жора. Но… Черт! Вот что я хотел выяснить! Немо, эй, Немо!
НЕМО. Слушаю.
ЛЕНЬКА. Ты говорил, что мы здесь уже в третий раз. Кем мы были в позапрошлой жизни?
НЕМО. Может, не стоит об этом говорить? Вы так трогательно прощались. Как родные братья. Я даже прослезился смолой… Мне кажется, опять-таки — не стоит омрачать правдой минуты расставания…
КОНТУШЁВСКИЙ. Еще как стоит! Ты, Циммерман, был троцкистом, и звали тебя –
Панкрат Непейпойло. А твой дружок Жорик был следователем НКВД, и носил не менее чудесное имя — Лейба Захерштуцер. Но тогда он с тобой не дружил, а вгонял тебе иголки под ногти, добиваясь признания, что ты — англо-франко-гренландский шпион. И, кстати, добился. Потому, что был хорошим следователем. Тебя расстреляли, как врага народа. А Захерштуцера пустили в расход три месяца спустя, во время чисток аппарата НКВД. Вы
сначала жили здесь — как кошка с собакой, а потом несправедливо окрысились на меня, и на этой почве подло сдружились. Вот так.
Минутное мыслемолчание
ЖОРА. Немо, это правда?
НЕМО. Да.
ХАСАН. Подтверждаю.
ЖОРА. Ленька, прости меня.
ЛЕНЬКА. Да ладно тебе. Мы же не знаем, как нами распорядятся. Ты просто в
следующий раз не зверствуй. Хорошо?
ЖОРА. Эх, знать бы, что это ты! Но все равно… Я лучше себе чего-нибудь
отрежу…
ПРОФЕССОР. Наивные чукотские юноши.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. Ой, щекотно-то как!
ЛЕНЬКА. Рябину пилят. Все понятно.
ЖОРА. Так вот где сидел этот олух.
НЕИЗВЕСТНЫЙ. Что-то больно стало! Ой, ой, ой!
КОНТУШЁВСКИЙ. Ай-я-яй!
НЕМО. Пан Контушёвский! Зачем издеваться?
КОНТУШЁВСКИЙ. Пошел ты! Не мешай наслаждаться!
ПРОФЕССОР. Опять у него листья торчат вертикально.
НЕМО. Маньяк!
НЕИЗВЕСТНЫЙ. А-а-а-а-а!
ЛЕНЬКА. Рухнул. Обрубают ветки.
КОНТУШЁВСКИЙ. Это и все? Наверное, ствол был тонким. Ну, ничего. Тополь потолще будет…
ЛЕНЬКА. Все, подходят ко мне. Жора, не поминай лихом. Прощайте все. Кроме Контушёвского.
КОНТУШЁВСКИЙ. А я что, крайний?
ЛЕНЬКА. Нет. Мы с тобой здесь же и увидимся.
КОНТУШЁВСКИЙ. Дудки! Давай, кричи громче, чтобы мне приятней было.
ЛЕНЬКА. Не дождешься, гад!
ЖОРА. Хасан, я помогу тебе в поисках Контушёвского! И дровишки в костер буду подкидывать я, чтоб ты не отвлекался. А то пригорит…
ХАСАН. Договорились.
ПРОФЕССОР. Я же говорил, что садизм — заразная штука.
НЕМО. Да будьте же вы, наконец, людьми!
ПРОФЕССОР. Они и есть люди…
ХАСАН. А ты?
Продолжительный мыслехаос
* * *
Куркуиловский национальный заповедник
1992 год
Петров посмотрел на высокий пирамидальный тополь и заметил:
— Молодой. И откуда он здесь взялся? Такие тополя обычно высаживают на юге. В городах и вдоль дорог. Он далеко не морозостойкий, а здесь, видишь, прижился.
Бессонов взглянул на дерево, и спросил:
— Сколько живет такой тополь?
— Обычный — лет сто пятьдесят, — ответил Петров. — Пирамидальный — особое дело. Он очень ломкий. В городах начинают спиливать опасные ветки уже с тридцатилетнего возраста. А в пятьдесят — срубают все дерево. Ну, в лесу такой тополь может жить и дольше. Здесь он — единственный. Интересно, как он сюда попал?