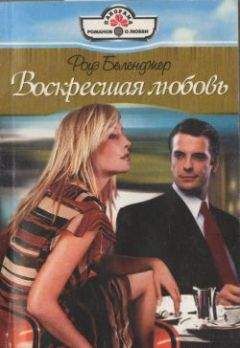Время от времени он все же звонил куда-нибудь по поводу жилья или тратил несколько воскресных часов, выезжая на Мадам Шуман-Хейнк по объявлению, представлявшемуся ему достаточно безнадежным. Но он больше не посвящал свободных часов изучению досок объявлений в торговых центрах или кофейнях, а как правило, незаметно для себя оказывался вблизи кампуса, на Парнелл-стрит, тротуары которой только что не смыкались один с другим, оплывая, будто прибрежный лед, дабы защитить хрупкой наружности широколиственные деревья (в Авиценне преимущественным правом проезда обладали они), и оставляя автомобилям одну-единственную неистовую полосу. Здесь он посиживал снаружи пещерообразной кофейни под названием «Южная Сороковая», поглощая чашку за чашкой кофе с молоком и поглядывая по сторонам
– не возвращается ли эпоха костюмированных персонажей.
Последний период жизни Фаррелла в Авиценне пришелся на время полоумных причудников: то была недолгая пора, когда любые капризы воображения немедля выплескивались на улицу и с оглушительным гомоном катили по ней, кружась подобно созвездиям. Деревенские простушки и горцы, Чака и Мурьеты, бесчисленные изможденные Иисусы, Кэгни в двубортных костюмах и Маккуины в сапогах, зомби и Распутины, пираты, ламы, команчи – все они большей частью куда-то сгинули, оставив взамен, насколько он видел, лишь множество одетых в небрежном стиле бизнесменов, кучу детей с именами наподобие Космос и Солнцестранник да пригоршню лысых, бледных, прыщеватых истовых ревнителей в одеждах цвета консервированного тунца. Фаррелл скучал по костюмам. Ему нравилось играть для них, что бы они под собой ни скрывали.
Самое странное, что они вечно носились по улицам, в крик требуя от людей, чтобы те обнажились, сорвали маски и позволили солнцу играть на их сокровенных лицах, озарять их подлинные, смертельно опасные и прекрасные сущности. Нет, ребята, это не для меня и если хотите знать мое мнение, так по мне чем больше костюмов, тем лучше. Маска на маске, личины, подобные слоям зимнего исподнего – вот это мне больше по нраву. От ряженых воздух становится ярче, и при том они позволяют тебе вдоволь упражняться, играя на лютне. А от голых не дождешься ни того, ни другого – во всяком случае, вряд ли. День, в который он бросил работу у «Тампера» – начало весны и новое блюдо под названием «Бедрышки Бемби» образовали сочетание, воспротивиться которому Фаррелл не смог – он провел в бессвязных поисках работы на какой-нибудь стройке и кого-либо способного сделать для лютни деревянный футляр. К пяти часам он в общих чертах сговорился с развеселым бенгальцем-краснодеревщиком и, ощущая ленивую жажду приключений и довольство собой, побрел к «Южной Сороковой», намереваясь выпить кофе с баклавой, и неожиданно пьеса Холборна, в которой пальцы его неизменно путались, начала сама собой проясняться. Пустых столов здесь в это время дня никогда не бывало. Фаррелл уселся за столик у входа, насупротив молодого человека в белых брючках, оладьеобразных тапочках и лиловой рубашке с картой Гавайских островов. По небу плыли стада облачков с затененными подбрюшьями, но воздух был тепл, сладок и, казалось, наполнен, как мед, золотистыми пузырьками, и все кто прогуливался по Парнелл-стрит – от амазонок с рюкзачками до татуированных мотоциклистов с застывшим на лицах ожиданием – двигались в этот час замедленно, как погруженные в мед.
Молодой человек в гавайской рубашке даже не повернул головы, когда Фаррелл присел за его столик, но после того как Фаррелл сходил вовнутрь и вернулся со стаканом воды, человек этот резко обернулся к нему и с кентуккийской хрипотцой спросил:
– Вы, надеюсь, не собираетесь пить эту воду?
У него было прямоугольное бугристое лицо со шрамами от угрей.
– Вообще-то собирался, – сказал Фаррелл, – у меня баклава застряла в горле.
Молодой человек отчаянно помотал головой и даже отодвинул стакан подальше от Фаррелла.
– Не делайте этого, сэр. Эта вода ядовита. В ней нет ничего, кроме чистого яда.
Я по-прежнему нарываюсь на них, подумал Фаррелл. – На весь 747-й «Боинг» может приходиться единственный Старый Моряк и в пяти независимых лабораторных испытаниях я четыре раза усядусь с ним рядом. Он ответил:
– О, я знаю, но теперь ведь куда ни кинь, всюду яд. Я махнул на это рукой, когда они начали подкрашивать апельсины.
– А вот сдаваться не следует, – убежденно сказал молодой человек. – Слушайте, если вам нужна вода, я вам скажу самое лучшее место, где можно ее получить. Инвернесс.
Он привольно откинулся на спинку стула и улыбнулся, обнажив пегие зубы. Фаррелл кивнул, глядя за плечо молодого человека. Это меня глаза подводят. Стоит взглянуть вот такому прямо в глаза, и он будет таскаться за тобой до скончания века, канюча, чтобы ты возлюбил всякую тварь, большую и малую. Но он все же ответил:
– Инвернесс. Да, я слышал, что в Инвернессе вода хорошая.
– Я всегда туда езжу, – сказал молодой человек. – И еще в Килрой. Килрой будет похуже Инвернесса, но все же и он ничего. И Арнольд. Есть такой городишко, Арнольд, вот там вода отличная, лучше, чем в Килрое.
Глаза у него были темно-синие, пугающе добрые и спокойные.
Только тут Фаррелл заметил на столе рядом с молодым человеком пустой стакан. Он поднял брови, глядя на него, но молодой человек лишь улыбнулся с еще большим чистосердечием.
– Я не пил из него воду. Посмотрите, видите, он сухой. Дело в том, что я хожу сюда только из-за стаканов.
Он с опаской взглянул направо, налево и затем неловким шлепком смахнул стакан со стола. Фаррелл услышал, как тот разбился, ударясь, впрочем, не об асфальт, а о другие стаканы. Заглянув под стол, он увидел мятую бумажную сумку для продуктов. Зияя распяленной пастью, сумка тяжело оседала рядом с ногой молодого человека. Кривые осколки сверкали под солнцем, кучей, плотной и яркой, словно сугроб. Молодой человек продолжал:
– Понимаете, я питаюсь стеклом. Все стаканы, какие тут есть, я съем за два, ну, может быть, за три дня.
В двух шагах от них трое детей громогласно сбивали цену на наркотик, выдуманный для усмирения плотоядных существ куда более крупных размеров. Белый мужчина и черная женщина, оба уже пожилые, медленно проходили мимо, под ручку, легко кивая знакомым. Фаррелл видел их на Парнелл-стрит каждый день, одетых всегда одинаково – либо в обтрепанные костюмы из красного бархата, либо в комбинезоны с детскими нагрудниками, выцветшие до оттенка больничного матраца. Фаррелл знал, что оба страшно бедны и безумны, и все же каждый вечер в это время поступь и повадка мужчины облекали его величавым и грозным достоинством, присущим айсбергу и носорогу, а черная женщина несла свое тело, словно колеблющийся, лепечущий язычок в колоколе кринолин и тафты. Прямо за спиной Фаррелла несколько иранских студентов уже били друг друга по мордам.