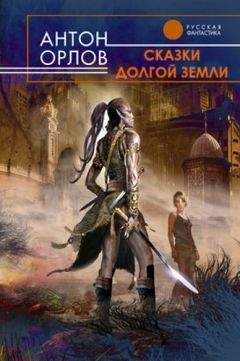— Лева мне уже предлагал — забыть! За сорок два бакса…
— Ну и зря вы отказались. Средство, не стану врать, радикальное. Но помогает. К чему изводить себя понапрасну? Тем более когда вы ни в чем не виноваты.
— Конечно, не виноват!
— А я о чем толкую? Нам еще долго ехать, успеете понять — ни в чем нет вашей вины. Ни на грош. Поймете, родной мой, прочувствуете…
— Нет, погодите…
— Да что тут годить? Маме вы ничем помочь не могли.
— А вдруг…
— Очнулась? Вряд ли. Помните, Сереженька, — сердце, оно не железное…
— Нет, ты мне зубы не заговаривай…
— Ну что вы, право! Самоедством решили заняться? Еще деда вспомните. Или одноклассника, которого в трясучку обыграли. У Носова родители в торговле работали. Оба. А у вас? Если уж решили все по крохам перебрать — припомните, как вас Дикаша в шмэн обул. И на счетчик поставил. Вам еще повезло: фарцанули сигаретками, рассчитались…
— Дикаша грозился морду разбить…
— Вот-вот! Для Носова те два рубля — плюнуть и растереть. А для вас — спасение.
— Он сказал, по монетке копил…
— Мало ли что он сказал? Доверчивый вы, Сереженька.
Поезд рвался в ночь, захлебываясь гудком.
— Да что ж ты меня все время защищаешь? Тут я не виноват, тут прав, там обстоятельства заставили?!
— Я ведь адвокат, дорогой вы мой человечек! Ваш адвокат. Не забыли? Это работа моя — защищать и оправдывать. А вы мне помочь не хотите, упираетесь!
— Не упираюсь я…
— Клиент должен сотрудничать с адвокатом, доверять ему. Только тогда…
— Что — тогда? Убеди меня, Рафа! Заставь поверить! Мелочь, значит, никчемушная? Плюнуть и растереть? За какой бок меня ни возьми — все ерунда, говорить не о чем?! Вся моя жизнь — фигня на постном масле?
— Кем вы себя возомнили, Сереженька? Гитлером? Чингисханом? Чикатило, на худой конец? Вот и не переживайте. Нет за вами ничего. Ни-че-го. Даже на пятнадцать суток не наберется.
— Знаю, знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч: о, если бы ты был холоден или горяч; но так как ты тепл, то изблюю тебя из уст моих…
— Вы мне этот постмодернизм бросьте. Нечего коньяк даром переводить.
— Так ведь конец, Рафа! Конец!
— Кто вам сказал, Сереженька, что это конец? Что за глупости… Все у вас только начинается. Вам еще с этим…
— Нет, мне хватит… Ладно, еще по одной. Вот ты — адвокат, да?
— Да, милый мой. Адвокат.
— А я, значит, обвиняемый. Хорошо. А об-ви-ни-тель где? Прокурор?!
— Не кричите, все спят…
— Кто он? Где он?!
— А вы сами как думаете, Сереженька?
* * *
— Пассажир! Вставайте, пассажир!
— А?
— Курский вокзал! Вставайте, говорю…
Взлетел ежиком — тем самым, гордым, которого пнули. Пятерней расчесать волосы. Охнуть от головной боли. Протереть глаза. Прийти в себя. Все вышеперечисленное, кроме охнуть, — без особого успеха. Выдернуть сумку из-под койки, прищемив палец. Охнуть еще раз, ясное дело. Покидать в сумку мелкое шмотье…
— Пассажир! Полотенечко-то оставьте! Оно казенное…
Нет, не Натали-клубничка. Другая проводница, пожилая.
…и воздвигся на перроне.
Господи, ведь это сплошная банальность — прибытие поезда. Зловещий шепот таксистов: «Машина! Недорого…» Бравые носильщики с тележками. Троица цыганок с чумазой детворой. Раздерганный похмельем бомж. Чемоданы, сумки, баулы. Москвичи и понаехавшие. Лысый коротышка в костюме.
Вздрагиваю.
— Рафаил Модестович?
— Что?
— Простите, обознался…
Нет, не он. Просто лысый. Мало ли лысых каждый день приезжает в Москву?
Когда меня разбудили, адвоката в купе не было.
Смотрю на вагон. От двери до двери бежит надпись: «Николай Конарев». Знать бы еще, кто он такой, этот Конарев… Ладно, брат, пошли в метро. На автомате: спуск под землю, карточка на две поездки, турникет, эскалатор, Кольцевая… Надо же, как вчера нагрузился. В мозгу булькали недопереваренные фрагменты мутного, тоскливого сна. Кажется, я пытался сбежать в Туле, но на перроне творилась такая жуткая, такая кошмарная хня, принявшая меня с распростертыми объятьями, что пришлось бегом вернуться в вагон; дергал стоп-кран, но тот, к счастью, не сработал; братался с Рафой по крови, требовал позвать начальника поезда, чтобы взять его за бороду…
— Мужчина! Вы садитесь?
— Что?
— Стал на дороге…
Литое плечо дамы отшвыривает меня в сторону. Дама грузится в вагон метро. А я, значит, загораживаю. Нет, я не сяду. Я обожду следующий состав. Да, метро. Нет, не вокзал. Ну и что? Да хоть автобус, такси, рикша! Видите? Там, за вагонным стеклом, улыбается мне Рафаил Модестович. Машет рукой, приглашая войти. Кто это рядом с адвокатом? А сзади? У двери? Кто висит на поручне? Кто читает книгу?
Кто хочет напомнить мне обо мне?
Нет, не войду.
Надо учиться жить с этим. Иначе я весь остаток жизни простою здесь, под землей, глядя, как поезда один за другим скрываются в тоннеле. Надо учиться. Заново. Можно, я еще немножко подожду? Совсем чуть-чуть. В конце концов, куда торопиться? Как говорил Рафа: «Кто вам сказал, Сереженька, что это конец? Что за глупости…»
— Мужчина! Вы едете?
— Да.
Я ждал Гамулина, а никакого Гамулина не было — встала у него машина на Егорьевском шоссе. Вечер, как сонное одеяло, укрывал землю, и начал моросить осенний дождик. Мне надоело, стоя на обочине, держать над головой зонтик, и я пошел через подлесок к станции, чтобы спрятаться под ее худую крышу.
Там, у кассы, уже сидел один человек. Старик в резиновых сапогах и хорошей спортивной куртке ждал чего-то на перевернутой плетеной корзине. Я дал ему закурить, и мы молча стали смотреть на мокнущие пути.
Подошел, пыхтя, дизель на Егорьевск, выплюнул рабочих, сразу севших в отправляющуюся мотодрезину, и какого-то похожего на цыгана туриста с разноцветным рюкзаком. Жаль, что не надо было мне на Егорьевск, совсем не надо.
Старик оглядел опустевшую платформу и засобирался.
— Не приехали? — спросил я.
— Кто?
— Ну, там… Ваши…
Но, оказалось, старик никого не ждал, а просто каждый день выходил на станцию, чтобы встретить поезд, а потом поглядеть, как он исчезает вдали. Он давно жил здесь, купив дом в товариществе садоводов, и даже подрабатывал там же сторожем.
Время сторожа было с сентября по апрель, когда домики садоводов пустели. Тогда старик чувствовал себя настоящим хозяином необитаемого островка на просеке под линией электропередачи.
— У нас места-то хорошие. У нас тут Ленин умер, — сказал старик веско.
Мы пошли по тропинке, что вела под, мачтами ЛЭП к зеленому забору. Пахло осенней сыростью и моченым песком прошлого, на котором так хорошо работает двигатель ностальгии.
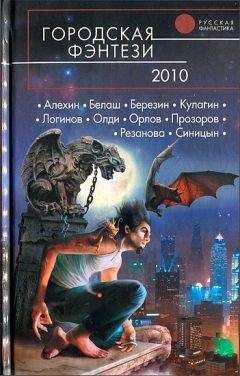
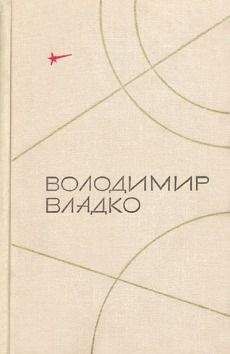
![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](https://cdn.my-library.info/books/70397/70397.jpg)