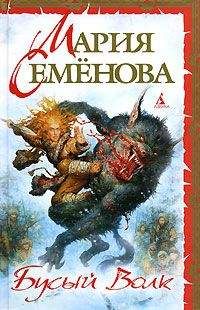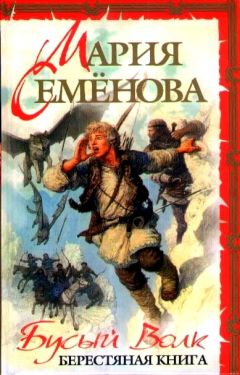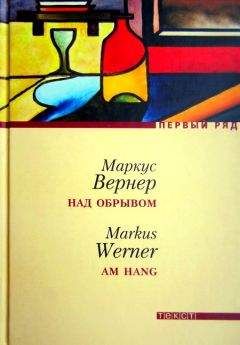Чужая кровь была и на ноже Колояра. И к лезвию тоже прилипло несколько бурых шерстинок.
И ещё – следы кругом. Очень много следов.
Убивший собаку и человека оставил звериные отпечатки. Не медвежьи, не волчьи, не росомашьи… Чьи? Неведомо. Таких следов венны-охотники отродясь не встречали.
Летун крутился рядом, жалобно скулил, потом принялся рыть лапами снег. Бусый наклонился и поднял слипшуюся прядь волос Колояра. По ладоням сразу побежали красноватые струйки, но прядь ещё охватывал связанный узлом ремешок, а на ремешке слезой дрожала хрустальная бусина.
Осокина бусина.
Знать, успела всё-таки подарить её Колояру…
И капли крови стали для неё обрамлением из венисов…
Мальчику вдруг показалось, что убийца тоже её искал, вспахивал когтями окровавленный снег, только бусина ему не далась. Спряталась, дождалась тех, кто зверя спугнул…
Глубоко вмятые отпечатки тянулись в сторону Крупца, туда, где мирно дымила за лесом деревня ничего не подозревающих Зайцев. Следы видны были отчётливо, но бесстрашный Летун идти по ним явно не хотел, да хозяева и не понуждали его. Следы принадлежали чудовищу, вдвоём с ним не сладить. На такого врага если уж выходить, так всем миром.
Если по уму, следовало со всех ног бежать в родную деревню. Причём бежать тихо, не поднимая лишнего шума, ведь страшный зверь был где-то рядом и вполне мог вернуться. Отметины крови, что сопровождали следы, были слишком редкими. Значит, Колояр со Срезнем его опасно не ранили, больше обозлили.
Но следы вели прямо к Зайцам. Мыслимо ли убежать, не предупредив их об опасности?
Бусый непослушными пальцами заталкивал бусину с прядкой в поясной кошель и неотрывно смотрел на отца. Никогда ещё в жизни он не испытывал подобного страха. Даже тогда, на берегу Светыни, когда ноги мало не отнимались, только бы не идти за хворостом в лес. Стыд вспомнить ту детскую боязнь темноты, в которой якобы могло притаиться нечто ужасное. Нынешний страх был совсем другим. Он жил наяву. Этот страх только что люто растерзал Колояра и шутя сломал спину Срезню. Он оброс бурой щетиной, у него были кривые когти и смрадная слюнявая пасть, полная хищных зубов. Он взывал из самых костей, он понуждал забыть про соседей и скорее бежать, пока с ним и с отцом не случилось то же, что с Колояром.
Ну да, а потом жить всю жизнь с мыслью о том, что мог весть Зайцам подать, да смалодушничал…
Летобор ответил почти точно таким же взглядом, отстегнул от пояса прадедовский рожок и передал сыну. Рожок был тот самый, в который Бусый трубил звонко и радостно, возвещая о ледоходе. Маленький, изогнутый полумесяцем, сверкающий чистой медью и нарядной серебряной оправой. Белки всем на зависть умели делать такие рожки. Пели они звонко и чисто и каждый по-своему, и звук летел далеко, деревни с деревнями перекликались, передавали вести, добрые и дурные, из конца в конец обширной веннской земли.
Бусый со строгим поклоном принял рожок. Он понимал, почему трубить предстояло именно ему. Летобор стоял стражем, держа наготове лук. Мальчик стиснул зубы, унимая дрожь, и затрубил. Никому не дай Боги даже услышать подобный позыв, какое там самому его подавать. Голос рожка забился в небесах, как набат.
Ещё раз. И ещё…
Наверняка Зайцы услыхали его. Очень может быть, что услыхали и Белки. И где-то в лесной трущобе[24] насторожилась, повернула окровавленную морду страшная тварь, и в глазах её затлели красные огоньки.
Последняя трель ещё звенела, разносясь на вёрсты вокруг, а отец с сыном уже во весь мах мчались прочь, силясь добраться до родной деревни раньше, чем чудовище, разъярённое их дерзким предупреждением, доберётся до них самих.
Летобор велел Бусому бежать впереди. И это опять было понятно. Если зверь нападёт, то скорее всего – сзади. И покуда батюшка жив, к сыну смерть он не пропустит. Ни за что.
Летун бежал рядом с людьми, то и дело оглядываясь, может, чувствовал что?.. Поднятая шерсть всё не укладывалась…
Как глаголет верная примета, злосчастья поодиночке не ходят, уж коли явилась беда – отворяй ворота, жди следом другую.
И другая беда долго о себе гадать не заставила.
В каких-то сотнях шагов от места гибели Колояра Летобор не в меру разогнался на крутом спуске, и там, где свернул в распадок лёгкий телом мальчишка, Летобора метнуло по склону, бросило на покрытую снегом валежину. Он упал врастяжку, только почувствовав, как что-то вроде толкнулось в бедро. Досадуя, подхватился встать…
И едва удержался от крика. И увидел вышедший наружу из своей ноги острый, как кабаний клык, еловый сучок. Сплошь перемазанный кровью.
Летобор напоролся на него в падении и теперь неловко висел, как мелкая пташка, насаженная на шип запасливым сорокопутом.
Сквозь пелену боли увидел склонившееся над ним лицо сына.
– Батюшка…
– Ты беги, – прохрипел Летобор.
И тут у Бусого разом куда-то подевался весь страх. А миг спустя пересохли и слёзы.
Отцу было плохо. Куда же тут побежишь? А плакать – недосуг, если худо кому, значит, помогать надо, а не цепенеть от испуга или слёзы бесполезные лить.
Бусый всё-таки не первый год жил на свете, он видел смерть и любовался рождением. Цвет крови сразу сказал ему, что сук, пропоровший ногу отцу, задел в ней широкую боевую жилу.[25] И потому никак нельзя высвобождать его из раны, во всяком случае, прямо здесь и сейчас. Вытащи – и хлынет кровь, и в одиночку ему не сотворить жгут, способный её удержать. Тут подмога нужна, мужская взрослая сила. Не то отец истечёт кровью и умрёт прямо у него на глазах.
Вот когда кстати пришёлся подаренный виллами нож. Дивная сталь легко отсекла зловредный сук от ствола. Летобор застонал, сполз с валежины, кое-как устроиться в снегу и скорее подтянул к себе лук. Добрый был лук, повитый берёстой, и кожаная тетива не боялась ни сырости, ни мороза…[26] Охотничья сноровка позволяла Летобору стрелять даже теперь, раненным и ослабшим. Только идти он больше не мог.
– Ты бы за подмогой, сынок, – выговорил он, заранее зная, что Бусый его не послушает. – С Летуном…
– Не пойду, батюшка, – тихо отозвался мальчишка.
Летобору подумалось, что сын, возможно, был прав. Вместе, оно и легче оборону держать. Да и от зверя, вздумай тот гнаться, даже его легконогий сын навряд ли уйдёт. Что ж, пусть попробует мерзкая тварь сунуться…
Одну стрелу в неё Летобор уж как-нибудь всадит. А если повезёт, то даже две или три.
Бусый вновь завладел старинным рожком, и медное горлышко издало ещё один клич. Услышав его, Белки – мужики с копьями, бабы с вилами – всем скопом ринутся оборонять родича. И горе тому, кто попробует им помешать. Прячься, людоед, убирайся с дороги!
Между прочим, у Бусого тоже был при себе лук. Который он сейчас, пускай с опозданием, но снарядил. Передвинул на место съехавший тул,[27] откинул берестяную крышку… Охотничья снасть мальчишки была, конечно, не чета мощному луку отца, ну так любой воин подтвердит, что дело не только и не столько в оружии. Что – оружие, если нож можно метнуть, а метательной сулицей[28] пырнуть, да сразу и насмерть. Верно, крупного зверя лёгкая стрелка не остановит и не отбросит. Зато она вполне способна воткнуться ему в глаз. А со стрелой в глазу поди-ка, повоюй.
Лишь бы не дрогнула ни душа, ни рука, натянувшая тетиву…
Летобор поглядывал на сына и почему-то верил: не дрогнет.
У него чуть отлегло от сердца, когда со стороны деревни Белок отозвались рожки. Их голоса близились, причём быстро, это на выручку сквозь лес ломилась родня. Со стороны селения Зайцев тоже мчалась подмога. Бусый время от времени отвечал, давая им направление, и думал о том, как станет отдавать бусину Осоке.
До прихода Белок и Зайцев чудовище так и не появилось.
Первыми пришли Белки, до их деревни отсюда было поближе. Но одновременно с ними с другой стороны примчалась Осока. Примчалась одна, далеко опередив своих. Словно что чувствовала.
Бусый с рук на руки передал отца родичам, спрятал лук и молча вытянул из кошеля бусину. Бусина повлекла за собой ремешок и на нём – кровавую прядку.
Лицо у Осоки сделалось серое. И старое. Не то чтобы на нём враз явились морщины, просто глаза стали, как у погасшей старухи.
– Веди туда, – тихо потребовала она.
И Бусый повёл. Не одну Осоку, много людей. И странное затишье было у него в душе. Рассказывал ровным медлительным голосом, как о чужом, и растерзанного Колояра им показал, как чужого, и отстранённо даже сам себе удивился. Так слишком сильно битая плоть вспухает подушкой, отказываясь допускать к сознанию новую боль.
Осока же при виде останков любимого не вскрикнула, не заплакала. Опустилась рядом с ним на колени, беззвучно, одними губами зашептала какие-то слова, размеренно покачиваясь из стороны в сторону.
Погодя приблизились обе большухи.