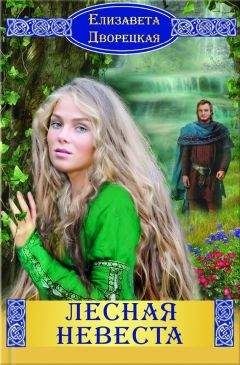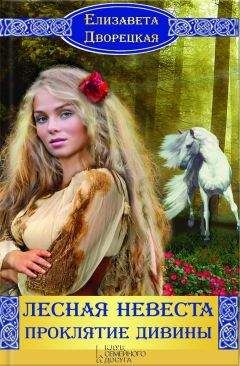Когда он пришел в себя, было светло. Он лежал на побуревшей листве, а над ним простирались ветви могучего дуба. Вот отчего так лежать неудобно: старые желуди впились в бока. Голова была тяжелой, все тело болело. А главное, он ничего не помнил.
Зимобор с трудом сел, протер ладонями лицо. Плащ сбился и чуть его не задушил, игла застежки колола кожу, перекрученный пояс впился в бок. В паре шагов впереди текла речка, шириной меньше шага, глубиной по колено. С трудом поднявшись, Зимобор сбросил плащ, поправил пояс, оправил рубаху, потом продрался сквозь густую осоку, снова намочил ноги, зачерпнул горстью холодной прозрачной воды, чтобы умыться. В шаге от него сидела крупная зеленая лягушка с желтыми пятнами на брюшке и смотрела круглым золотистым глазом, как будто хотела что-то сказать.
Опять в кощуну попал… Зимобор окинул лягушку взглядом, но стрелы возле нее не имелось. И на том спасибо. Убрав с лица мокрые волосы, он вернулся под дуб и сел. В голове был полный сумбур. Как он вообще сюда попал?
Потом он вспомнил. Ночь, песни о древних князьях, цепочка огней, висящих в воздухе вокруг временной могилы, блеск клинков под луной… Три лежащих тела. Мелькнула надежда, что все это дурацкий сон. Зимобор рванул меч из ножен и схватился за голову. Мало того, что вчера клинок не вытер, кровь засохла, портя драгоценную булатную сталь… Урод, недоумок, даже в десятилетнем возрасте он не мог бы так сглупить… Бить его некому…
А главный ужас в том, что это вовсе не сон. Значит, на него напали, он убил троих, а потом в приступе какого-то безумия сбежал сюда… Зимобор содрогнулся: он очень хорошо помнил, как убегал от смертной Бездны, и это, пожалуй, ему не померещилось.
И где он теперь? Ну, найти дорогу к Смолянску он сумеет, не маленький, да и едва ли забежал слишком далеко, хотя эта роща, ручей с лягушкой, небольшая луговина за ручьем и снова полоска леса казались незнакомыми. Но ему теперь все кажется другим… Так что, вставать и идти обратно?
Но что-то не пускало встать и пойти. Что его ждет там, в Смолянске? В голове яснело, нерадостные соображения всплывали одно за другим. Его пытались убить, это несомненно. Допустим, он никому ничего не скажет. Но тех троих найдут, может, уже нашли, потому что утро, судя по солнцу, не раннее. Лучше было бы, если бы их не нашли, но не волочить же ему было, как ночному лиходею, трупы к берегу Днепра! Их обнаружат, пойдут разговоры, разбирательства… Никто ничего не видел… Кмети вспомнят, что он уходил ночью один, но свидетелей самой схватки не было. Допустим, вынесут приговор, как бывает, что «ни на ком не сыскалось». Едва ли Избрана будет требовать отыскания виновных. То есть если не виновата, то как раз и будет… или сделает вид, что не виновата, и потребует…
Мысли цеплялись одна за другую, путались, но никакого просвета за ними не показывалось.
А ведь истинный виновник, кто бы он ни был, на этом не успокоится. А значит, ему, Зимобору, будущему князю, нельзя выходить ночью одному? Ходить с кметями даже к отхожему чулану, в своем собственном доме? Позор! Но все его противники – люди упрямые. Они попробуют опять. Или будут искать другие средства. А средств этих много, и все они так или иначе будут бить по целому городу, по всему племени! Выходит, дети княгини или их сторонники не готовы подчиниться божьему суду. Даже победа Зимобора в поединке с Буяром, будь она хоть трижды очевидна и убедительна, не убедит побежденных. Покоя в Смолянске не будет. Стало быть, ему, князю, ради этого покоя придется обидеть очень многих: выслать, заключить под стражу, может быть, лишить жизни… Зимобор не был к этому готов. Его врожденное чувство чести и справедливости возмущалось при виде того, как честь и справедливость попираются близкими ему людьми, но он не мог поступать подобным образом. Он хотел не столько власти, сколько справедливости и соблюдения обычаев. Воля предков в том, чтобы наследником отца стал он, старший сын. Но их никак не обрадует, если ради этого их потомки станут проливать кровь друг друга.
А вокруг была весна: на могучих дубах только-только раскрылись светлые, мягкие молоденькие листочки, напоминающие ушки каких-то новорожденных зверьков; под ногами лежал толстый ковер из бурой прошлогодней листвы, источавший тонкий, прохладный, пьянящий запах прели. Сквозь слежавшиеся дубовые листья пробивались зеленые стрелки молодой травы, кое-где синели крупные фиалки, а поодаль, в мелких зарослях под кровлей дубовых ветвей, лежали на земле широкие темно-зеленые листья ландыша, иначе молодильник-травы, похожие на лодки. Тонкие стебельки изогнулись под тяжестью белых, блестящих, похожих на крупные жемчужины цветов, и их аромат с каждым вдохом вливался в грудь. Зимобор протянул руку, сорвал ближайший стебелек, понюхал свежие кругленькие бубенчики с шестью крохотными лепесточками – и на душе полегчало. В этом сладостном запахе было, казалось, все самое лучшее, что только может дать человеку богиня Леля, весенняя внучка самой Макоши.
– Здравствуй, сокол мой ясный! – вдруг раздался в нескольких шагах от него звонкий, уже знакомый голос.
Зимобор поднял голову и застыл. Даже позвоночник, казалось, заледенел от того зрелища, которое ему представилось. Под дубом, среди ландышевых зарослей, стояла девушка. Она не пришла, не прилетела, а просто выросла, вытянулась из-под земли, из листьев и цветов, соткалась из густого сладкого воздуха. На ней была рубаха белее снега, распущенные золотистые волосы спускались ниже колен; тяжелые, густые, блестящие пряди вились, словно их развевал невидимый ветер, струились, как воды солнечной реки. На голове девушки был венок из листьев и стеблей цветущего ландыша, и эти же стебельки с цветками-жемчужинками были густо вплетены в пряди ее волос, так что девушка казалась каким-то живым снопом цветущих ландышей. Кожа ее была почти такой же белой и нежной, как цветы, и чуть-чуть сияла в полумраке под дубом. А лицо ее… Зимобор встретился с ней глазами, и душа затрепетала, точно готовая покинуть тело. Ее черты были прекраснее мечты, в них отражались спокойное всезнание и невозмутимая уверенность, присущая нечеловеческим существам. В руке ее были зажаты железные ножницы.
Не в силах пошевелиться, Зимобор не мог ни встать, ни даже моргнуть. Эти ножницы с их холодным, даже хищным железным блеском не вязались с манящей нежностью ее облика, но при этом казались ее неотделимой частью.
– Что же не здороваешься? – Девушка улыбнулась, шагнула ближе, и на Зимобора повеяло мощной волной ландышевого аромата. – Ведь ты хотел снова со мной повидаться. Разве нам не о чем поговорить?
– Это… ты? – едва вымолвил Зимобор и с трудом поднялся на непослушные ноги. Его шатнуло, и он оперся о влажную, в мелкой древесной пыли, жесткую шкуру дуба.