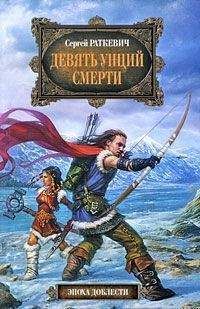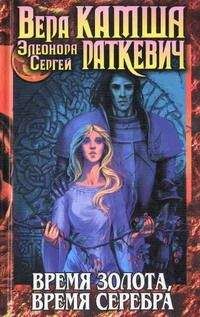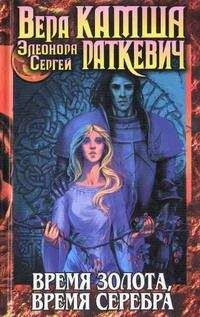Вода…
Она обязана быть в рукомойнике. Проснувшись утром, ополоснуть лицо прохладной водой и быстрей к любимой работе!
И хорошо, когда вечером, после трудного, но успешного дня она есть в железной бочке или каменном бассейне, чем горячей, тем лучше, смыть трудовой пот, расслабиться, хорошо…
Еще вода может быть в подгорном ручье, реке или озере — это особые места, туда не каждому ходить приходится.
Но воды не должно быть так много. Так много просто не бывает. Не должно бывать. А она смотрит и смотрит на тебя, смотрит и хмурится. Ее так много, что она в состоянии смотреть и хмуриться. Она живая, что ли?
И вкусившая ранее недозволенных плотских утех и теперь мечтающая о подвигах молодежь, и умудренные опытом прежней жизни старики, все еще мечтающие о возрожденном величии гномов или хотя бы о несокрушимом шарте под их, разумеется, командованием, и даже не боящиеся смерти Невесты — все испуганно пятились от страшной зеленовато-черной воды, чьи скользкие блестящие щупальца с шипением тянулись к ним.
Невесты не боялись смерти, но это была не смерть… это была вода.
— Небывалая вода… — жалобно сказал кто-то из гномов.
Она завораживала и притягивала, пугала и отталкивала, она…
Да полно, вода ли это?!
— Она нигде не кончается… нигде… — выдохнул кто-то.
— Она сейчас схватит нас! Не подходите! Не подходите! — раздался чей-то истерический крик.
— Тут нам и конец, — спокойно и обреченно возвестил старейшина Шмуц.
— Не пойдем! — заорало сразу несколько голосов.
— То-то Якш смылся! — ядовито промолвил кто-то из старейшин, кажется, Пихельсдорф. — Продал нас переросткам, а сам сбежал, скотина!
— Она тянется к нам! Тянется! — вновь истерически завизжал кто-то, и гномы шарахнулись прочь, налетая друг на друга, сбивая с ног.
Страшно.
Тебе страшно — так же, как прочим.
Страшно.
Тебе, может, даже еще страшнее, Гуннхильд Эренхафт. Каждый из них визжит и шарахается лишь за себя. Каждый из них толкает, сбивает с ног и топчет другого лишь за себя.
А тебе нужно выдержать, не струсить и остаться стоять за всех.
За всех.
Владыка не смеет трусить. Нет у нее на это права. Да и времени тоже нет.
— Стоять! — яростно орешь ты, надсаживая связки, лишь бы услышали, лишь бы опомнились, а то ведь и моря никакого не нужно, эти трусы сами себя потопчут.
И еще раз:
— Стоять!
Кажется, услышали.
А теперь — шепотом, очень громким шепотом, так, чтоб всем слышно:
— Горло перережу тому, кто двинется… правда перережу…
А теперь еще одно, самое страшное, медленно повернуться к этому жуткому морю спиной, лицом к остальным гномам, скорчить подобие улыбки, она кривая, ну да ничего, авось сойдет, пусть лучше улыбки моей боятся, чем друг друга ногами месят, отступить на шаг… оно не схватит меня, не схватит, вода не живая, она никого не может схватить и, продолжая улыбаться, говорить… говорить… говорить… ругаться.
Когда это ты научилась так ругаться? У кого? А слова-то какие! «Недомерки сопливые», это ты про своих сородичей? А сама? Да что с тобой, владыка?
А ничего. Так им и надо.
Их ведь повезут на кораблях, Фицджеральд рассказывал, что это такое. Под ними будет надежное сухое дерево, и вода вовсе их не коснется, если, конечно, соблюдать осторожность и не лазить где попало, а вот тебе… тебе придется утворить нечто запоминающееся, чтоб их успокоить. И ты уже знаешь, что это. Знаешь и готова. Но тебе все равно страшно. Потому что в глубине души ты считаешь эту воду живым существом, которое только и ждет…
И все же… Другого выхода нет.
— Гномы! Петрийцы! — на сей раз орать не нужно, тебя каким-то образом слышат все, и шипение волн не смывает твой голос, напротив, ветер разносит его во все стороны. Всем слышно. — Я, ваша владыка, сейчас войду в эту воду, дабы доказать вам, что бояться нечего.
Гномы издают слитный нечленораздельный стон.
— Вам же и вовсе в нее входить не нужно. К завтрашнему утру люди пригонят к этому берегу корабли, что и перевезут нас всех на остров, — продолжаешь ты.
Еще один стон, не стон, скорей бурчание, в котором даже и слова отдельные разобрать можно, и ничего хорошего в этих словах нет, ни для людей с их неведомыми кораблями, ни для владыки с ее девичьей глупостью.
— Кстати, насчет девичества и глупости, — продолжаешь ты, — любой гном, последовавший за мной в воду, за свой беспримерный героизм получит от меня в награду «ночь любви»!
«Вот так, засранцы! Съели?!»
Молодежь уже подходила с подобными предложениями, смущенные молодые гномы, запинаясь и бормоча, обещали невесть что юной красавице владыке, если та вдруг да окажется к ним благосклонна, старые предрассудки их не пугали, скорей даже напротив.
Что ж, посмотрим на вас теперь. Море — это вам не дедушкины сказки, легко смеяться над поверженными стариками и их дурацкими обычаями, а вот вы над неведомым посмейтесь! Что? Как-то не выходит?
Фу, как некрасиво! Неужто никто?
Хорошо придумала, владыка, умница. Вот только ты не чужую храбрость проверяешь, не суженого себе подыскиваешь и даже не партнера на одну ночь. Тебе просто страшно лезть в эту непроглядную жуткую воду одной.
И все-таки ты полезешь, владыка.
Может быть, ты просто дура?
Боги мои, да, наверное…
— Сапоги сними…
— Что?
Ты оборачиваешься.
Фицджеральд. Тэд Фицджеральд. Лучник. Комендант Петрийского острова.
Вот только до острова еще добраться нужно. По воде. Вот по этой самой.
— Сапоги сними, владыка.
«И чего он прицепился?»
— Зачем?
— Затем, что ноги высохнут, а сапоги потом три дня хлюпать будут. Простудишься, заболеешь, как на своих орать станешь?
«Заботливый ты наш…»
— Штанины подверни, — скомандовал Фицджеральд, когда гномка аккуратно поставила рядом с собой свои короткие удобные сапожки.
— Страшно? — участливо буркнул он.
«О Боги! Он и в самом деле сочувствует!»
«Или издевается?»
— Нет. Не страшно, — решительно ответила владыка и отчаянно шагнула в набегающую волну.
— Ну, гномы! Никто не хочет получить то, о чем вчера так старательно просили?!
Тишина.
«Молчат».
«Не хочу идти одна. Не хочу».
«А придется… придется, владыка…»
— Ох!
Она вскрикнула, покачнулась, проклятая вода и в самом деле схватила ее, схватила и толкнула. Дружный стон с берега, вот теперь гномы и в самом деле побегут. Куда глаза глядят побегут. Да что же это такое! В этой воде нет и не может быть ничего опасного, это просто вода и все, море — это такая большая чаша, просто слишком большая чаша! Не смей меня толкать, проклятая зеленая гадина! Не смей, слышишь?!
Рядом послышался плеск, и крепкая рука Фицджеральда удержала ее от падения.