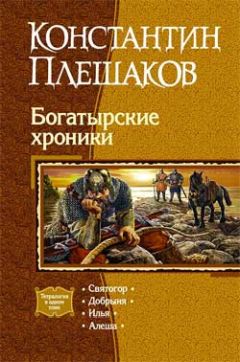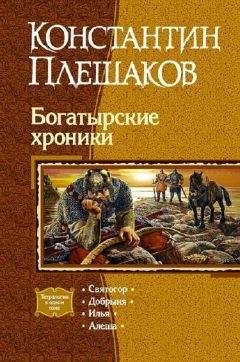Могила богатыря должна быть глубокой: иначе он будет слышать земные дела и после смерти не найдет покоя. Когда мы ушли в почву на две сажени, внизу вдруг глухо зазвенело железо. Сняв еще с локоть земли, мы наткнулись на два меча. Лезвия их сияли как две молодые луны. Взяв один из них в руку, я обнаружил, что рукоятка его была теплой.
На могиле посадили дуб, всю поляну заговорили от добрых и от злых духов, оставив себе по ключу. Долго стояли на коленях и молчали.
— Ушел, — сказал я наконец.
— Смородинка приняла?
— Приняла.
Уже в лесу Алеша спросил меня вполголоса:
— Так, значит, к тебе вернулась Сила?
Я кивнул.
Мстиславу мы ничего объяснять не стали. Сказали только, что барсы его теперь бесполезны. Неведомо как Волхв успел их приручить, и на рассвете они взвыли уж не на Скиму, а на сражавшегося с ним Учителя. На всякий случай барсов прибили стрелами, а тела кинули в болото. Шатер сожгли. Про остальное Мстиславу знать было не нужно.
Не нужно ему было знать про то, что самые Сильные мечи добываются через вражду и смерть и что Учитель нарочно вывел нас к своему последнему тайнику и там разъярил. Не надо было князю знать и про то, что, в отличие от нас, Учитель догадался, что барсы больше князя не уберегут. А то, что в ту ночь Учитель Мстислава заслонил и отбил у большого зла, Мстислав знал и сам.
Не успел еще распрямиться посаженный на могиле Учителя дуб, как Мстислав уже послал гонцов к Ярославу в Новгород. Гонцы везли княжескую грамоту. В ней Мстислав писал, что войну прекращает, сам уходит с войском в Тмуторокань, советует брату безо всякого страха возвращаться в Киев и оттуда как старшему невозбранно владеть всей правой стороной Днепра.
Через семь дней, не дожидаясь ответа, Мстислав вывел свое войско из Чернигова и направился к морю.
Войско уходило в полном молчании. Мстислав в знак скорби запретил песни, горны и бубны. Ослушавшихся было велено карать смертью.
Мы проводили Мстиславово войско до сурожских волн, пожелали князю удачи, пообещали вскорости навестить Тмуторокань, а сами ушли в степь.
Первые тридцать дней мы провели в молчании. Мы бороздили степь вместе и порознь, всегда сходясь для ночлега, но ни разу не раскрыли рта. Безмолвно мы трапезничали, безмолвно стреляли птицу, безмолвно разводили костер. Словно страшась нашего молчания, за тридцать дней нас не потревожил никто. Молчание не было ни дурью и ни прихотью. Такая тишина предписывается учителями на темном распутье — либо перед большим подвигом. Насчет подвига мы не знали. Может, никакой бой на самом деле нам и не предстоял. Распутье же было серьезным: какую дорогу выбирать, куда ехать и что делать, как искать Волхва?
Перед тем как замолчать, мы договорились, что на этот раз не отступимся и что никакие дела и никакие вести не заставят нас оторваться от следа. Хорошо было бы еще, чтобы с нами согласились боги и либо позволили нам прикончить хищника, либо дали нам самим пасть в бою.
Мы жаждали решительной сшибки. Бессмысленные скитания надоели, а от княжеских распрей воротило с души, как от тухлого мяса.
Никаких знамений ни я, ни Добрыня в степи не видали. Как ни заговаривали мы с Силой и с богами, никакого ответа мы не получали. Впрочем, нам удалось несколько успокоиться и укрепиться: молчание предписывается учителями не зря. Положенное нами время испытания истекло. Потянулись новые пустые дни. Мы уже находились в степи намного дольше, чем собирались. Однако никто не решался заговорить первым. Все еще казалось, что боги откроют нам на что-то глаза или что Сила подхватит нас неодолимым смерчем и понесет прямо на врага.
Боги молчали. Скажу больше, они злонамеренно отвернулись от нас. Сила земли свернулась в клубок и затаилась. Закаты и рассветы были тусклы. По ночам мелкие звезды сонно моргали над головой, делая вид, что вовсе позабыли о всяком волшебстве. Даже ночь полнолуния выдалась слабой, как разведенный мед. Ведьмацкие травы осыпались и засохли. Птицы перестали отвечать на мой зов. Звери скрылись. Больше в степи делать было нечего. Мы оказались не любы богам.
Все так же молча мы поехали к Днепру.
Ничего приметного по дороге не случилось, и мы заговорили, только когда наши кони замочили ноги в синей днепровской воде.
— Куда теперь?
— В Новгород. Я и так обещал Ярославу приехать через три луны.
— Нахохлится князь, знает он, что у Мстислава под боком ты терся.
— Да не в том дело… Слово богатырское нарушил я. Теперь никогда не будет мне веры от Ярослава… Ну да провались он. Знаешь, Добрыня, чувствую я — не придется мне больше по княжьим коврам шаркать, хитрые речи плести. Кончилось то время. Отпал я от князей.
— Больше ничего не чувствуешь?
— Ничего. Так в Новгород?
— В Новгород.
И мы снова замолчали. Понять нас стороннему человеку было невозможно. Богатырских дел на Русской земле оставалось столько, что и десятерым богатырям не переделать. Мы же теперь не хотели ввязываться ни во что и только тоскливо втягивали в ноздри воздух: не пахнет ли откуда-нибудь Скиминой шкурой…
Под Черниговом заехали на могилу Никиты. За прошедшие месяцы высаженный дубок быстро пошел в рост. Поляна оставалось крепко запечатана, и, кроме безвредных насекомых, на ней никого не водилось. Даже пчелы и осы попусту бились о возведенную нами невидимую стену: как-никак, а у них все же имелся яд, и Сила их отсекла.
Стояли последние дни лета, но Никитина могила утопала в мягком разнотравье. Цветочные головки безмятежно покачивались на ветерке, легкий сладковатый запах витал кругом. Сама могила была усеяна крепкими желудями. Сомнений не было: ничто не тревожило Никитин сон.
На этом месте мы решили дать своим мечам имена. Когда мы обрели мечи, они были одинаковы, как близнецы. Теперь, проведя с нами лето, они изменились, приспособившись к руке хозяев, и теперь их было уже не спутать. Добрыня назвал свой Травень. Я неожиданно для себя выбрал дальнее имя: Синоп. Я часто возвращался в мыслях к Тмуторокани и к тому, что я там пережил; видимо, отсюда пришло и имя.
Из черниговских лесов поехали прямиком в Новгород. Подобравшись поближе, разделились: в отличие от меня, Добрыня богатырское слово держал, а ведь он обещал Мстиславу близко не подходить к мятежному брату. Он остался кочевать в лесах, я же поскакал в город.
Ярослава в Новгороде я не застал. Мстислав смирно сидел в Тмуторокани, однако Ярослав покидать северные края опасался, правил Киевом через воевод, а сам жил то в Новгороде, то в небольших городках в округе. Он боялся предательства — яда, ножа и удавки. Я нагнал его в пути.