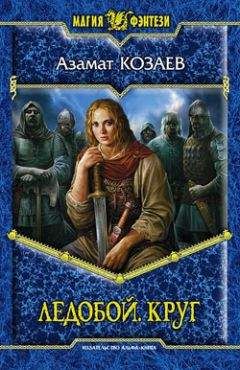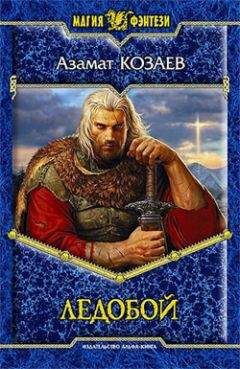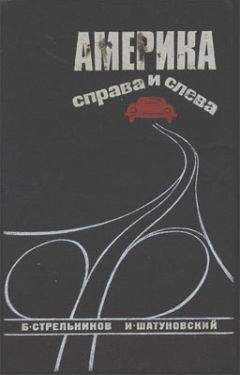Верна аж сглотнула. Едва не поперхнулась — горло сходило вверх-вниз насухую, едва не скрипнуло в шее. Резко отвернулась, села спиной, опустила голову и ссутулила плечи. Получился холмик в медвежьей шкуре. Долго собиралась с духом.
— Ты женился только чтобы… ну… чтобы я… ему не досталась? Только поэтому? — боги, боги, что с нею такое… это искупление за Гарьку? — Давно хотела спросить и… боялась… Не то чтобы я ничего не чувствовала… ты порою очень жаркий… вон, двое у нас, но ведь и силком женатые нет-нет, да вспыхнут… А может, просто казнишься за что-то, а я у тебя вместо топора палача… Нет, я и без этого тайного знания с тобой годы жила и дальше проживу… но…
Сивый закусил ус, качнул челюстью, сплюнул перекушенный волос. Там, под шкурой даже дыхание умерло: бурый холм топорщился на ложнице совершено недвижим. Безрод протянул руку, ухватил пальцами мех, потянул на себя и, когда медвежья горка опала, пером легонько провёл по ребрам, а стоило Верне, закатившей от блаженства глаза, отвернуть к нему голову, за волосы у самой шеи подтянул её к себе, к самому лицу. Медленно приблизил губы к уху и шепнул что-то коротенькое, на два-три выдоха. Она захлопала оленьими глазами, там в зеленоватой сини что-то океанически блеснуло, с губ, ровно водопад, полилась неостановимая улыбка, и тут же исполинский выдох облегчения вздыбил грудь, а куда… куда ты денешь свои глаза, если, как известно, за ресницы привязан к её соскам?
— Ты зимние вещи взяла?
— Какие? Зачем?
— Зимние.
— Потом. Помолчи. Я просто мокрая…
* * *
— Змеища! Душегубица! Самая-то пара Сивому уроду!
Теремные, видя Верну, шипели, беззвучно плевались вослед, но на глаза показываться боялись, а попробуй скажи всё в лицо — вон, Коса и Луговица на второй же день, как Безродовна приехала, попробовали: уперев руки в боки, двумя наглючими телегами подкатили к ней. Одну угораздило родиться боярышней, дочкой млечского боярина Резуна, вторая — жена Смекала. Нашли друг друга, спелись две души. Нет, ну надо же поставить островную сучку на место, пусть голову во дворе опускает, глаз не поднимает, показывает, как глубоко раскаивается, как извиняется перед честными людьми. Так эта вместо покаянных слёз молча поставила ведро и хлобыстнула дурочек бошками: облапила загривки, бац, а спесь с обеих и послетала, ровно старая краска, и вылезли из-под спеси одни лишь кровь из разбитых носов, плач-рёв-слёзы и здоровенные синяки. Так вот же дуры: нет бы дождаться, когда она обратно с пустым ведром пойдёт — Сивому запретили покидать гостевой терем и Верна выносила после него сама, никому не позволила. Вот и познакомились обе дуры с душегубом так близко, как сами того не желали. Прям, когда узнал, сначала уржался, ровно жеребец, потом отправил обеих мыться и стираться, да посоветовал седмицу париться в бане до седьмых потов. А чего? Душегуб ведь, сами говорили. Сам-то вон где, а злодейства творит даже не приближаясь. А вдруг это заразно, точно мор? А ещё болтают, мол, баба с пустым ведром к беде! Придурки, это смотря какая баба! Какая-то с пустым, а Верна — с любым, хоть пустым, хоть полным. Да и вообще без ведра.
Съехались все. Ждать больше нечего и некого. Суд назначили через день. Жарик дневал и ночевал у Стюженя, вместе с Тычком и Ясной: после случая с Косой и Луговицей, Сивый велел сыну оставаться со стариками и на боярский двор без взрослых носа не казать. Найдутся доброхоты, возьмутся растолковывать мальцу смысл жизни. И когда Ясна с Тычком приводили Жарика, тот катался верхом на Безродовой шее, весело смеялся и был счастлив почти так же как на Скалистом. Вот он, отец, под попкой, и можно таращиться в расписной свод с диковинными травами, и кажется он так близко, вот протяни руку и в ладошку ляжет синий стебель с красным цветком. Стоял ты своими ногами на земле и было до свода — ого-го, руки вытяни и то не достанешь, и даже если подпрыгнуть… и даже если со стола — всё равно ого-го. А тут сразу вот он, а если встать отцу на плечи — вообще близко.
— Мне почему-то кажется, что сегодня в ночь придут недобрые вести, — Стюжень, Прям, Безрод и Перегуж сидели в гостевом тереме, в едальной и попивали бражку. — Опять случится что-то жуткое, и мы все трое будем вынуждены прыгнуть в сёдла и умчаться. Враз подрежут всех ворожцов и подпалят летописницы в краях и весях, случится набег, на краю Боянщины вскроется заговор…. Да мало ли. Они это умеют. Отработали поганцы свои ухватки.
— Если ты прав, — невесело бросил Прям, оторвавшись от чарки, — это случается вот прямо теперь. К ночи весть принесёт гонец, но случается именно в этот самый счёт.
Безрод усмехнулся и быстро полоснул взглядом по всей троице, что-то в льдистых глазах блеснуло так, что Стюжень едва не поперхнулся.
— Знать бы, что случается в этот миг. Что идёт по наши души…
Ишь разболтался, краснобай. Верховный упорно искал синие глаза, а стервец прятал, хотя, да… попробуй он не спрячь, мало тут не покажется никому. Но если бы можно было, вот честное слово, схватил бы этого за язык да размотал, пока всё не скажет. Ведь знает что-то подлец! Болтает на руке шейный шнурок из конского волоса с парой подвесок: золотым кругом, вроде перстня и длинной, в локоть, серебряной змейкой с красными глазками, сомкнувшей зубы на собственном хвосте. Прищурив левый глаз, глядит через кольца и хмыкает.
— За тех, кому плохо, а терпят, — Перегуж поднял чарку, многозначительно оглядел остальных.
— За тех кого прямо теперь подрезают на службе…
— За тех, кто стоит, а назад не пятится…
Всё посмотрели на Сивого. Тот молча покатал брагу по чарке, хмыкнул, буркнул:
— За упрямых, упорных, упёртых.
Верховный сузил глаза и уставился на подсудимца. Вот всегда с ним так: сказал что-то, а ты сиди, мозгуй, думай, что он увидел, что знает, что ему нашептали с Той Стороны?
— Ты это… если нас на суде не будет, нос не вешай, держи хвост трубой.
Безрод какое-то время молчал, потом брякнул такое… ни к селу, ни к городу, трое несколько мгновений встревоженно переглядывались — умом тронулся от волнений? В тот раз не тронулся, а в этот готов?
— Овчиную верховку бы Жарику. Да и Верне тоже. И поршни тёплые.
Если бы эхо могло повторять за тяжёлой, напряжённой тишиной, оно катало бы из угла в угол, от пола до свода: «Чего? Чего? Чего?»
«Вы что-нибудь поняли?» — взглядом спросил Прям у остальных.
«Вроде и выпили немного», — Перегуж недоумённо покосился на свою чарку.
«А теперь скажи то, что хотел сказать на самом деле», — верховный почесал загривок.
— Середина лета! Какие верховки? При чём тут верховки?
Безрод ожидаемо молча усмехнулся.
— Ополоумел, босяк? Зачем тебе верховка? Зима неблизко.
— На самом деле, ты чего? Захворал?
— Зима идёт к тебе, это полбеды, — Сивый вперил взгляд в свод, там белый скакун летел по полю красных цветов на синих стеблях, — сам уходишь искать зиму — туши светоч.
— Но…
— Пока не ускакали, сделайте, как я скажу…
Глава 50
Шесть ладей с медведем на парусах бессильно застыли посреди моря в дне ветряного ходу от Боянщины. Моряй на головной ладье тревожно всматривался в дальнокрай и морщился. Твою мать, море странное, безветрие кругом, вода не дышит: ни ряби, ни даже полуряби, а то что есть, это как малец носиком на воду пыхает. Синяя бездна сделалась точно мелкий стоячий пруд в лесной чаще, через которую не продерётся никакой ветер, хоть перегнись через борт, да глядись в неподвижную гладь, как в зерцало. Но вот глядишь ты, воевода княжеского ладейного поезда, вовсе не за борт, а на восточный дальнокрай и премного странного видишь — а там, кажется, вода темнее, а там, кажется, рябит вовсю, а на полудне дымка плавает-колышется, дальнокрай смазывает… да и нет его по сути дальнокрая. Украден. Спрятан туманом.
— Краёк, ну-ка глянь по сторонам. Ничто странным не кажется?
Кудрявый отрок, сам долговязый, шея долговязая и даже нос ему от отца-мамки достался какой-то долговязый, приложил руки к бровям.