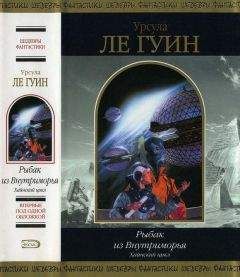Анаррес не имел своего флага, так что самому Шевеку нечем было размахивать на демонстрации, но среди лозунгов, провозглашавших всеобщую забастовку, голубых и белых знамен синдикалистов и социалистов он заметил множество самодельных флажков с зеленым Кругом Жизни посредине — старинным символом движения одонийцев, созданным два века назад. Бесчисленные флажки и знамена храбро реяли на солнце.
После чердаков и подвалов приятно было вновь оказаться на свежем воздухе, приятно было идти со всеми вместе, размахивать руками, говорить громко, быть частью огромной толпы людей. Тысячи и тысячи демонстрантов заполнили улицы и переулки Старого Города, мощным потоком текли по главному проспекту; это было поистине впечатляющее зрелище. Когда люди запели, охваченные единым могучим порывом, глаза Шевека наполнились слезами. Его охватило невыразимое, глубокое чувство единства с этой толпой, зажатой тесными улочками, стремящейся на простор, к весеннему солнцу и свежему ветру. Толпа растянулась неопределимо далеко, и песня, подхваченная тысячами голосов, прокатывалась по ней подобно волнам, замедленно и неровно, как бы нагоняя сама себя. Так эхо одного пушечного выстрела встречается со вторым. Получалось, что все куплеты песни пелись одновременно, вперемешку, хотя в каждом ряду люди пели их в нужном порядке, с первого до последнего.
Шевек не знал их песен и только слушал, весь во власти этого пения и всеобщего подъема, пока из самых первых рядов до него не докатилась — волна за волной по морю людских голов — та песня, которую пели и у него на родине. Он поднял голову и запел ее вместе со всеми, на своем родном языке, так, как когда-то выучил еще в школе. Это был гимн одонийцев-мятежников, его пели два века назад на этих самых улицах его предки, предки его народа.
Заря разбудит тех, кто спит;
Заполнит мир ее сиянье!
Исчезнет тьма, и мрак бежит,
И сбудутся все обещанья!
Те, кто шел рядом с Шевеком, умолкли, слушая его, и тогда он запел во весь голос, улыбаясь и дружно шагая со всеми вместе вперед.
Возможно, на площади Капитолия собралось сто тысяч людей, а может, в два раза больше — индивиды в толпе, подобно элементарным частицам, не поддаются точному подсчету, и невозможно точно определить их местонахождение в данный момент, невозможно предсказать их поведение. И все же эта немыслимо огромная масса людей была как-то организована и делала именно то, что от нее ожидалось организаторами забастовки: люди с песнями прошли по улицам до площади Капитолия, заполнив ее и прилегающие к ней улицы до отказа, и относительно спокойно и терпеливо стояли под ярким полуденным солнцем, слушая выступавших, чьи голоса, искаженные и усиленные громкоговорителями, звонким эхом отдавались от фасадов Сената и Директората и разносились над бесконечной и тихо гудевшей толпой.
Здесь, на этой площади, сейчас больше народа, чем во всем Аббенае, подумал Шевек; мысль была мимолетной, даже не мысль, а попытка придать непосредственному ощущению количественную характеристику. Он стоял с Маеддой и остальными на ступенях здания Директората; за спиной у них был портик с красивыми колоннами и высокими бронзовыми дверями. Шевек смотрел на трепещущее перед ним море темноволосых голов и слушал, как и все эти люди, тех, кто выступал с речами: не слыша и не понимая конкретных слов — в том смысле, в каком разум слышит и постигает собственные мысли или как мысль воспринимает и постигает сама себя. Когда он заговорил сам, то ему казалось, что речь его мало чем отличается от слушания. Им управляло сейчас неосознанное желание сказать что-то конкретное — он вообще не воспринимал себя в данный момент как нечто самостоятельное, отдельное от этой толпы, — но мысли его и чувства, единые для всех присутствующих, сами находили для себя словесную оболочку и изливались наружу. Многократное эхо, отражавшееся от каменных фасадов массивных зданий, впрочем, несколько сбивало его, заставляя говорить медленней. Но выбирать слова ему не приходилось ни разу. Он говорил то, что было у них на душе, говорил на их языке — хотя сказал не больше и не умнее, чем когда-то сам себе, в своем одиночестве, собственному сердцу.
— Нас соединяет страдание. Не любовь. Любовь не подчиняется разуму — напротив! Она даже может возненавидеть разум, если он попытается воздействовать на нее силой. Те узы, которыми мы скреплены, не имеют выбора. Мы братья. Мы братья по всему, что делим друг с другом.
Братья по тем страданиям, которые каждый переживает в одиночку, братья по голоду и нищете, а еще нас объединяет в братство надежда. Мы хорошо знаем, откуда взялось наше братство, мы вынуждены были это узнать. И мы понимаем, что помощи нам ждать неоткуда, кроме как друг от друга; ничья рука не спасет нас, если мы сами не протянем друг другу руки. И пусть наши руки будут пусты! Когда у тебя ничего нет, ты ничем не владеешь. Никем и ничем не обладаешь. Ты свободен! Все, что у тебя есть, это ты сам. И еще то, что ты можешь отдать и отдаешь другим.
Я здесь потому, что во мне вы видите воплощение того обещания, которое одонийцы дали двести лет назад здесь, в этом самом городе. Мы — сбывшееся обещание. У нас, на Анарресе, ничего нет, кроме нашей свободы. И мы ничего не можем дать вам, кроме вашей свободы. У нас нет законов, но есть единственный принцип, соблюдаемый всеми, — взаимопомощь. У нас нет правительства, мы свободное объединение людей. У нас нет государства, мы не являемся нацией, у нас нет ни президента, ни премьер-министра, ни вождя, у нас нет генералов, бизнесменов, банкиров, землевладельцев, у нас, правда, нет зарплаты и благотворительности, но нет и полиции, нет солдат, нет войн! И многого другого у нас тоже нет. Мы стараемся всем поделиться, а не всем завладеть. Наше общество нельзя отнести к процветающим, это правда. Мы не богаты, ни один из нас. Но никто из нас не обладает и властью над другими. Если вы хотите создать у себя именно такое общество, если вас привлекает такое будущее, то вот что я вам скажу: вы обязательно должны прийти к нему с пустыми руками, одинокими и нагими, каким ребенок приходит в этот мир, навстречу своему будущему, не имея ни прошлого, ни собственности и пребывая в полной зависимости от других людей, которые взяли на себя ответственность за его жизнь. Вы не можете взять то, чего не давали сами, и вы должны научиться отдавать. Нельзя купить революцию. Она должна существовать в вашей душе, в вашем сердце, или вы не обретете ее нигде.
Шевек уже кончал говорить, когда голос его заглушил громкий стрекот полицейских вертолетов.
Он отступил от микрофона и посмотрел вверх, щурясь на солнце. И многие в толпе тоже подняли головы, и одновременные движения их рук и голов были похожи на ветер, волнами пробежавший по залитому солнцем хлебному полю.