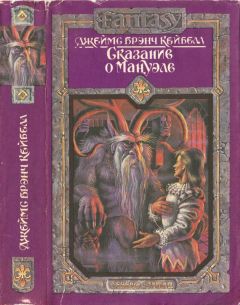Раймон Беранже сказал:
— Несомненно, тебе будет тяжело иметь двух сестер–королев, и, вероятно, маленькая Беатриса тоже выйдет замуж за какого–нибудь короля, когда придет время, а ты останешься лишь графиней, которая, правда, краше всех.
— Отец, я понимаю, к чему ты клонишь, — воскликнула Алианора. — Ты думаешь, мой долг — преодолеть свои личные склонности и выйти замуж за английского короля по высшим, безжалостным политическим соображениям и ради Прованса.
— Я лишь сказал, моя дорогая…
— Ибо ты сразу увидел, с присущей тебе проницательностью, от которой ничему не скрыться, что с помощью твоей мудрости и совета я бы отлично узнала, как управиться с этим возвышенным королем, являющимся хозяином не крошечного, с носовой платок, Прованса, но всей Англии, да в придачу еще и Ирландии.
— Также, по праву, Аквитании, Анжу и Нормандии, моя драгоценная. Все же я просто заметил…
— О, поверь мне, я с тобой не спорю, дорогой отец, ибо знаю, что ты намного мудрее меня, — сказала Алианора, прекрасным жестом смахивая крупные слезы со своих прелестных глаз.
— Тогда будь по–твоему, — ответил Раймон Беранже, разведя руками. — Но что делать с графом Мануэлем?
Король посмотрел на гобелен, изображающий жертвоприношение Иеффая, рядом с которым сидел Мануэль, переделывая фигуру молодого человека с любящим взором Алианоры, которую Мануэль создал побуждаемый своим гейсом и, похоже, не мог добиться совершенства.
— Я уверена, отец, что Мануэль в этом вопросе тоже будет великодушен и принесет себя в жертву.
— О да! Но что произойдет после? Ибо всякий видит, что ты и этот косоглазый длинноногий парень по уши влюблены друг в друга.
— Думаю, после моего замужества, отец, ты, или король Фердинанд, или король Гельмас пошлете графа Мануэля в Англию послом, и я уверена, что мы с ним всегда будем настоящими хорошими друзьями, не дающими повода для сплетен.
— Ого! — сказал король Раймон. — Я понимаю твой маневр, и он направлен в сторону гавани английского короля, а не моей. Моя роль теперь — удалиться, чтобы вы вдвоем смогли уладить детали этого посольства, в котором дон Мануэль должен быть представителем стольких королей.
Раймон Беранже взял скипетр и ушел, а принцесса повернулась к Мануэлю, одновременно трудившемуся над тремя изваяниями, которые он создал по подобию Аельмаса, Фердинанда и Алианоры.
— Понимаешь, дорогой Мануэль, мое сердце разбито, но ради королевства я должна выйти замуж за английского короля.
Мануэль поднял голову от работы.
— Да, слышал. Я сожалею, что никогда ничего не понимал в политике, но, полагаю, ничего не поделаешь. Ты не могла бы встать чуточку левее? Ты загораживаешь свет, и я не совсем отчетливо вижу, что делаю с верхней губой.
— И как ты можешь возиться с этой грязью, когда мое сердце разбито?
— Потому что на меня наложен гейс — создать эти изваяния. Я не знаю, зачем моя мать это пожелала, но уверен: все, что суждено, нужно вынести, так же как сейчас нам нужно пережить обязательство, наложенное на тебя: выйти замуж за возвышенного английского короля.
— Мое замужество не отразится на наших отношениях. После того, как я стану королевой, ты вскоре сможешь приехать ко мне в Англию, ибо говорят, что этот король — убогое долговязое ничтожество.
Мануэль смотрел на нее пару секунд. Она покраснела. Он, сидя у ног плачущего Иеффая, улыбнулся.
— В общем, — сказал Мануэль, — я отправлюсь в Англию, когда ты пришлешь мне гусиное перо. Так и договорились.
— Ах, ты сделан из льда и железа! — воскликнула она. — И тебя ничего не интересует, кроме твоих мокрых, грязных чучел. Ты мне отвратителен!
— Моя дорогая, — спокойно ответил Мануэль, — неприятность состоит в том, что каждый из нас ставит что–то свое превыше всего остального. У тебя это — власть, громкое имя и муж–король, который сразу станет твоим глашатаем, твоим слугой и твоим любовником. Откровенно говоря, я сейчас не могу тратить время на светскую жизнь, поскольку мое желание отлично от твоего желания, но так же неодолимо. Кроме того, становясь старше и наблюдая за поступками людей, я начинаю подозревать, что у большинства нет заветных желаний, а лишь скромные предпочтения. В мире таких заурядных людей, мы с тобой не можем и надеяться на избавление, нам всегда скажут, что мы из льда и железа, но нам не подобает бросаться такими затасканными словами.
Некоторое время она молчала. Потом неловко рассмеялась.
— Я часто гадаю, Мануэль, кто внутри этой огромной розовощекой, косоглазой, серьезной оболочки: великий мудрец или круглый дурак.
— Значит, у нас есть еще кое–что общее. Ведь я тоже часто размышляю о тебе.
— Значит, договорились.
— Договорились, что вместо того, чтобы править маленьким Арлем, ты станешь королевой Англии, владычицей Ирландии, герцогиней Нормандской и Аквитанской и графиней Анжуйской; что наш знак — гусиное перо; и мне неловко повторять, что тебе нужно отойти от света и больше не вмешиваться в выполнение моего гейса.
— А что будешь делать ты?
— Мне, как всегда, нужно следовать своим помыслам…
— Если ты скажешь еще хоть одно слово, я закричу.
Мануэль добродушно рассмеялся.
— Полагаю, я произношу это довольно часто. Значит, это правда, а самая большая неувязка в наших отношениях, Алианора, что ты эту правду не замечаешь.
Она же сказала:
— А я полагаю, ты теперь пойдешь за утешением к какой–нибудь женщине?
— Нет, утешение, которого я желаю, не найти среди юбок. Нет, во–первых, я отправлюсь к королю Гельмасу. Ибо мои изваяния упорно остаются безжизненными, и в каждом из них чего–то не хватает, и ни °Дно из них не является той фигурой, которую я желаю создать. Сейчас я не знаю, что с этим поделать, но Жар—Птица поведала, что король Гельмас, поскольку все сомнения покинули его душу, способен мне помочь, если это вообще способен сделать человек.
— Значит, нам нужно попрощаться, хотя, надеюсь, ненадолго.
— Да, — сказал Мануэль, — это расставание, а для какой–то части моей жизни это прощание навеки.
Мануэль оставил свои изваяния там, где на них, казалось, смотрит с дикой, тупой болью древнееврейский военачальник; и Мануэль взял девушку за обе ее прелестные ручки и стоял так какое–то время, глядя сверху вниз на принцессу.
Мануэль очень печально сказал:
— Я выплакиваю эту элегию в таких выражениях, которые могут себе позволить одни мальчишки. «Наверняка, — сказал я, — наполненная чувствами и во всем совершенная душа просвечивает сквозь это прекрасное тело и раскрывает себя в нем». Так началось мое поклонение тебе, чьи фиолетовые глаза все время сохраняют холодный, хрупкий свет и не смягчаются, но для меня они всегда были теми глазами, которыми, как говорится, богиня смотрит на погубленных влюбленных, которые выплакивают элегию надежде и удовлетворенности бескровными устами, опаленными страстью, которую она, бессмертная, не может ни ощутить, ни постичь. Даже при этом, милая Алианора, не являясь богиней, ты смотришь на меня, не движимая ничем, кроме безразличного интереса, покуда я выплакиваю свою элегию…