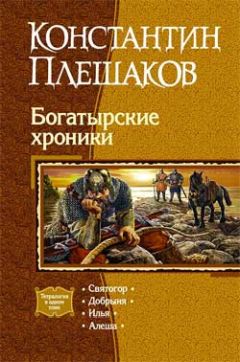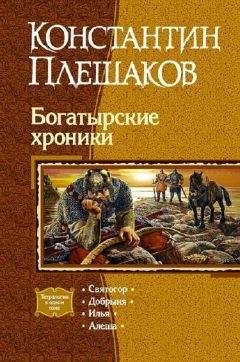— Сделано.
Я обернулся и тут же вскочил на ноги: Алеша лежал ничком на земле, и ярким белым огнем полыхала его безжизненно поникшая правая рука…
Я подхватил его, как перышко, и бегом бросился прочь от руин. Толпы на улицах испуганно расступались, как вода, гонимая ветром, смолкали крики, высыхали слезы. Уже совсем недалеко был княжий терем… Задыхаясь на бегу, я заглянул в лицо друга. Глаза его закатились, он еле дышал. Я мельком глянул вниз, на его увечную руку, и не сдержал стона: серебряный огонь пропал, и ладонь стала чернеть на глазах. После этого время для меня остановилось.
Знахари, колдуны и прорицатели толклись во дворе днем и ночью. Под страхом смерти им было запрещено отлучаться. Эта пестрая толпа гомонила дни напролет, и из Алешиной комнаты их разговор казался мне карканьем воронья.
Алеша умирал. В сознание он больше не приходил. Рука его была похоронена глубоко в руинах Итили: я отсек ее, как только добрался до княжеского двора. Однако это не помогло. Не помогло и мое умение врачевать. Собравшиеся целители бледнели от страха и трясли головами: никто не мог понять, что это за болезнь, ясно было только, что она наслана Силой Итили. Испробованы были все средства, некоторые настолько отчаянные, жестокие и отвратительные, что я о них и вспоминать не хочу. Ничто не помогло, улучшения не наступало.
Алеша лежал спокойно, не метался, не бредил, жара не было, напротив, его постепенно сковывал холод. Его не согревали ни медвежьи шкуры, ни раскаленный очаг, ни сильное питье, ни заговоры. Глаз он не открывал и вообще не подавал ни одного признака жизни, кроме слабого прерывистого дыхания.
Так он пролежал три дня и две ночи. На третий день, ближе к полудню, в комнате вдруг потемнело. Я выглянул в окно: с севера на Тмуторокань наплывало темно-синее облако. Оно летело быстро, и даже хотелось сказать, что оно куда-то очень спешило. Вскоре выяснилось, куда это облако летело и зачем.
Оно остановилось над городом, и над Тмутороканью разразился небывалый ливень. Его струи были с мой палец толщиной. Они прибили к земле всю зелень и местами разворотили даже крыши.
Ливень бушевал нескончаемо долго. Лицо Алеши налилось белизной. Кончики его пальцев шевельнулись и беспомощно заскребли по постели. Я стал на колени и заплакал.
И тут прямо перед Алешиной кроватью с потолка вдруг пролилась струя воды. Она вилась вокруг своей оси, журчала и сияла чистым зеленоватым светом. Как только она коснулась земли, Алеша резко вздохнул, повел плечом и отошел.
Ливень продолжался еще несколько мгновений, потом перестал. Облако растаяло, но солнце не вернулось на небо. На сорок дней над Тмутороканью повис туман.
Я похоронил Алешу в степи. Долго искал место, наконец выбрал маленькое урочище. Там в дубовой роще из-под земли бил родник. Я выкопал яму в два богатырских роста, выстелил ее душистыми травами. Свистнул Алешиного коня, перерезал ему горло и столкнул на дно. Сверху наложил дубовых ветвей. На ветви лег Алеша. Лицо его было спокойно. Мне даже почудилась тень его лукавой усмешки. Я вложил ему в руки меч и прикрыл тело плащом. Отмолившись над ним с рассвета до заката, я стал забрасывать яму землей.
Тмуторокань медленно отходила от пережитого ужаса. К руинам Итили было запрещено приближаться. Похоронив Алешу, я провел на них три недели, однако, думаю, многого не достиг. По моему совету князь Мстислав на веки вечные запретил городу вонзать в землю лопату. Помимо всего прочего, это означало, что новое строительство больше невозможно и что Тмуторокани века через два придет конец. На это место вернется степь, а люди откочуют на север, к Сурожскому морю, или через пролив, в Корчев. Что ж, это лучше, чем жить на руинах Итили.
Горожане ликовали. Подземелий и их безжалостных стражей можно было больше не бояться. Что же до погибших в Итили пленников, то споров на этот счет не было: они приняли быструю смерть, избавившую их от адских мучений.
Каждый день горожане осаждали княжий двор с просьбами устроить празднество. Князь отвечал всем одинаково: «Подождите, пока уйдет туман».
На сорок первый день после Алешиной смерти туман рассеялся, выглянуло солнце, и в городе застучали топоры и молотки — готовились столы и помосты. Я хотел уехать в ту же ночь, но Мстислав упросил меня остаться:
— Хоть три дня еще меня не бросай. Великой Силой вы Итиль взяли, дай под Силой этой хоть чуть-чуть еще походить.
— Алеша Итиль взял. Не я.
— Понятно это мне. Но все же…
В назначенный день по всему городу накрыли столы, зазвенели знаменитые тмутороканские бубны и трубы, толпами повалили в город званые касоги… Озирая веселье с высокого княжеского помоста, Мстислав вдруг наклонился ко мне и шепнул:
— У меня все ливень тот из головы не идет… Почему Алеша в дождь ушел, а не в молнию?
Я с отвращением посмотрел в хитрые глаза любопытствующего князя:
— Потому что пожар в городе твоем боги тушили.
Лицо князя просияло.
— Так теперь счастливо правление мое будет?!
Не знаю, как я удержался, чтобы не снести в тот же миг Мстиславу голову с плеч. Только-только ушел в землю Алеша, а уж загорелись алчные глаза, залопотали глупые языки, даже в смерти его выгоду ищущие. Боровы тупорылые! Не вам о богатырях умерших судить! Не вам Алешино имя произносить устами червивыми! Положить бы на вас проклятие страшное, чтоб и в мыслях не касались вы великих мертвых своих!
Но не положил я проклятия никакого и голову князю не срубил, а вместо этого чашу с вином поминальным молча допил, с помоста спрыгнул и пошел куда глаза глядят.
Но ушел я недалеко, и попал я в беду большую, какой не чаял, потому что подняли меня на плечи хмельные тмутороканцы и понесли по городу, и осыпали меня цветами девицы, и кланялись мне в землю старухи, и трубили в мою честь проклятые южные горны… И не было у меня сил ни головы рубить, ни плакать, ни кричать, ни стонать, ни беспамятствовать, ни помнить, саднило все нутро мое, как незажившая рана, и хуже крючьев Итили рвала мне сердце ликующая толпа, несущая меня на плечах с возгласами: «Слава Добрыне!..»
Я ушел из Тмуторокани в ночь. Тьма не утихомирила город, гуляки слонялись даже по княжескому двору, на который я зашел за своим конем, и, завидев меня, падали пьяные гуляки ниц, и хватали меня за стремена, умоляя пробыть в городе обещанные три дня… Не было у меня сил больше терпеть, и пнул я просившего сапогом в лицо, и хлестнул коня плетью, и понесся прочь из проклятого города.
В степи я спешился, лег и приник ухом к земле.
Где-то далеко-далеко, в невообразимой глубине, слышался тоскливый протяжный вой: это тосковала по Итили бездомная Ларна.