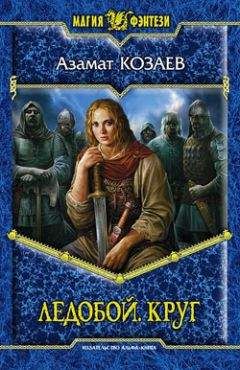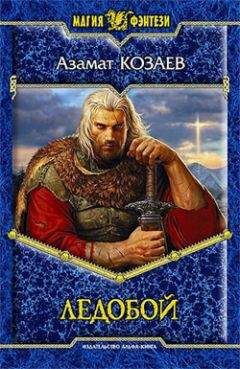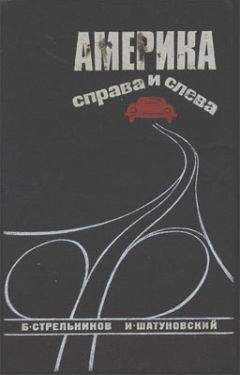— А всё равно мы сучку два раза уделали!
И на обрывки нити на полу головой мотнул, а когда Сивый изумленно пальцами показал: «Два раза? Не один?», млеч кивнул на Верну, как раз вошедшую в горницу, и молча лицо сделал. «Конечно два! Ещё спрашиваешь». Сивый усмехнулся, подставил жене руки.
— Можно и третий.
Дёргунь непонимающе нахмурился.
— Если это то, что я думаю, ещё не всё веселье отшумело.
— И что дальше?
— Просто будь недалеко. Если что, сам увидишь.
— Углядишь суку, передай… — млеч вдруг запнулся, стрельнул на Верну глазами, отошёл ей за спину, чтобы не видела, и с размаху припечатал левую ладонь на плечо правой.
Безрод хмыкнул, а Дергунь, ровно сорванец на зимнем льду, мощно оттолкнулся и заскользил по снегу к двери, со стуком едва в стену не воткнулся, хорошо створ пришёлся прямо в ладони, случайно глянул под руку и поёжился. Красные камешки, что на тельце змейки были нанизаны, торчат из бревен, уголками сидят глубоко, в шаге друг от друга, аж древесину расщепили к мраку. Ага, змейка проползала, хвостиком махнула. Млеч оглянулся. Безроды смотрели на ночного гостя спокойно, ровно освобождали от заклятий каждый день: Сивый без выражения, в общем, как обычно, она — исподлобья, зубами тканину резала.
— Жаль, что сестры нет.
— За дурака мы всё равно не отдали бы.
Верна перекусила тканину, выпрямилась, глазами сделала: «А ты как думал?» Млеч только расхохотался. Ничего, что сзади по шее течёт и липко сделалось, и горячо. Ничего. Что с того, что кисть едва не отваливается. Ничего. Перемелется, мука будет.
— Один умный человек мне как-то сказал, мол, когда соберёшься сделать дурость, оглянись: в кустах увидишь умника, который тебя на тупость подбил, и будет он беззвучно ржать, аж кишки станет видно.
— Знаю я этого мудреца, — хмыкнул Безрод, глядя куда-то поверх головы. — Наравне с молодыми носится туда-сюда, сединами на ветру трясёт.
— Мне бы по-хорошему повиниться нужно, — сипнул млеч и шмыгнул носом. — Но что с меня взять? А может, мне на суде выступить? Расскажу, что было да как.
— Не подставляйся, — Сивый глазами показал на разорванную нить на полу, не просто заиндевевшую, а покрытую коркой тающего льда. — Это за тебя скажет. Даже споёт! Ворожба по-прежнему там. Только в кольцо свяжи.
— Я ж дурак!
А когда за спиной хлопнула дверь, Дёргунь едва к своду не взлетел, ровно таскал неподъёмный камень все эти дни, а тут цепь лопнула и булыжник тю-тю. Млеч даже смерил переход глазом, разогнался, что было дури, и за несколько мгновений пролетел все несколько саженей, едва о стену не разбился.
— Кто орал? — спросил Гремляш на улице. — Чуть двор не перебудили.
— А чего не зашёл? — млеч держал дурацкую улыбку на губах, держал, но та понесла, ровно жеребец, разве её удержишь? — Вдруг меня резали?
— Туда тебе и дорога, — фыркнул Гремляш. — Телом больше, телом меньше, Сивому уж всяко не полегчает и хуже не станет.
— А вдруг я резал? — Дёргунь глядел на встревоженные лица стражи и едва сдерживался, чтобы не загоготать — все четверо перепуганы, лиц на них нет, если бы не Гремляш, как пить дать, влетели бы в горницу и… языки проглотили.
— Ты резал Безрода, — повторил Гремляш и кивнул. — Ага, смешно.
— Сам-то на страже или сменился?
— Сменился. Мне бы жену в ложницу вдавливать, а я тут с тобой лясы точу.
— А может подождёт жена? Выпить хочу.
— Выпить?
— Ага. И тряпки чистые нужны.
— Зачем это?
Вместо ответа Дёргунь повернулся спиной к светочу, и Гремляш озадаченно присвистнул.
— Тебя коты когтями драли?
— Хуже. Так есть брага?
— Ну, ладно, пойдём в дружинную. Найдём.
— Браги-и-и-и, мне бы браги-и-и, — вполголоса завыл Дёргунь и под недоумевающие взгляды стражи, дурачась и приплясывая, двинулся в темноту за давним соратником.
Глава 52
— Браги, мне бы кувшин браги, — орал в голос Дёргунь, уносясь на гнедом прочь, и если бы Отвада мог заорать то же самое на весь белый свет, он потребовал бы не кувшин, а просто залил бы в себя целую бочку. В живых после таких подвигов, понятно, не остаться, и уже там, в княжестве Ратника попроситься бы не за стол к храбрецам, а на задний двор Житника, брата Ратника, выносить за скотиной. Пустым, бездумным, с чистой памятью ходить за коровами.
Только не будет браги, а будет дорожка из двадцати шагов на самый край помоста, а там, ровно безбрежный океан, людские глаза. И говорить придётся на трезвую голову, и когда ядовитые слова начнут слетать с губ, рухнуть замертво не получится — ядовитые слова кусают почему-то лишь других. Змея от своего яда не гибнет. Выслушали всех видоков, и «за», и «против», только лица у людей мрачны и безрадостны — не дураки, в ухо каждому будто весы вмурованы, слова, что падают в улитку, ложатся или на чашу «виновен» или на чашу «невиновен», и уж так вышло, что чаша «виновен» у всех просто переполнена и лежит в самом низу. Чаша вниз пошла и утянула за собой брови и уголки губ, люди почти все нахмурены и никто не улыбается.
— Вы говорили, что верите своему князю, — начал Отвада, подняв руку. — Скажу только то, что видел своими глазами. Про тот поход к берегу моря весь город гудит, только не каждый день князь лично рассказывает, что там было да как.
Толпа и дышать перестала, тишина вывесилась такая, что пролети слово, оно ровно муха попадёт в невидимую сеть и сделается видно в воздухе.
— Мы нашли ту самую деревню, которую мор выбил первой, — Отвада водил глазами справа налево и наоборот и упирался взглядом в хмурые лица, которые чем-то напоминали ему лица детей, когда отец велит отдать щенка и будет так, как он сказал, а ты к нему уже привык, и слёзы обиды сами собой катятся из глаз.
Слезы он на самом деле видел. Некоторые бабы держали глаза на мокром месте. Уже поняли, смирились, начали оплакивать. Но если оплакивают, значит… не верят в виновность? Или это извечная бабья жалость к побиваемому?
— Скот, который сделал это с нашими соседями, просто не имеет права называться бояном и человеком, — князь накручивал сам себя, перебирая жуткие картинки перед внутренним взором, ровно свитки с рисунками. — И он оставил следы. Страшные следы, которые нельзя было не заметить! Он так полыхал злобой, что все, к чему прикасался, обугливалось, ровно дерево в огне!
Люди ахнули. Кто-то в голос, кто-то просто беззвучно раскрыл рот.
— А хотите знать, куда привели следы, и что мы нашли там, где началась эта жуткая дорога в лесах?
Отвада ждал, и кой-когда тишина бывает жаркой и кусачей, ровно языки огня: ты молчишь, водишь по толпе глазами, и она закипает, чисто похлёбка в котле.
— Да что нашли-то?
— Князь, не тяни!
— Да говори уже, не тащи кота за хвост!
— Шли по обугленным следам и вышли к берегу моря. Нашему с вами берегу, чуть дальше в ту сторону, — Отвада показал на восток. — Там захоронение. Приметное место, и захочешь, мимо не пройдёшь.
— Что за место?
Князь помолчал.
— Против старого святилища. Там, где застенки из моря на берег вышли в ту вылазку.
Толпа загудела. Безрод сидел молча, только знаками о чём-то говорил с Верной.
— Ворожец был с нами. Показал, где копать. Ну начали копать. А там…
Отвада поморщился, тяжело сглотнул, помотал головой.
— В раскопе нашли сгнившее тело оттнира, только сгнило оно не как обычно. Смердело так, думали воздух сквасится, начнёт хлопьями осыпаться, а у самих носы завянут. В яме жижа зелёная плавает и пена какая-то болотная вокруг. Земля потемнела, доспех оттнира какой-то дрянью выпачкан и будто коростой покрыт.
— Ну? А дальше?
— Не томи, князь!
— Убит ударом в голову, только били не мечом, не секирой — рукой в боевой рукавице. Сама рукавица тут же в раскопе валяется. Самое приметное то, что убитый при жизни был шестипалым, — Отвада взял передышку, оглядел толпу. — Шестипалым груддисом!
Полетел удивлённый свист. Ну дела! Тот самый шестипалый, что весной на море озоровал, и которого заставные угомонили?