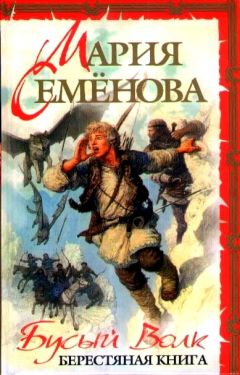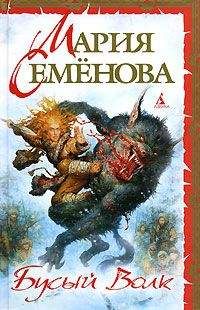«Зуррат, — с первого взгляда узнал его Латгери. — Зуррат…»
Голова десятника медленно покачивалась туда-сюда, мокрая грива спутанных волос не давала рассмотреть лицо, однако Латгери успел увидеть достаточно, чтобы воочию представить глаза, закатившиеся под лоб, и ощеренный рот, хрипящий в последней муке. Стоять-то Зуррат стоял, но только потому, что упасть уже не мог. Та самая сила, что отняла у Латгери способность к движению, играючи насадила Зуррата на острый древесный отщеп и оставила умирать на нём, как на колу.
Вот забавно, старый десятник, которого никакое чудо уже не могло спасти, всё никак не желал расставаться с ускользающей жизнью, всё длил и длил её мучительные мгновения, и пропоротая грудь, надо же, совершала очередной вдох…
Для Латгери его сипящее, хлюпающее дыхание вдруг зазвучало сладостной музыкой. Сосредоточившись, он принялся жадно пить страдание Зуррата, смакуя каждый глоток драгоценной силы, припадая к источнику волшебного могущества, равного которому не знал даже Владыка. О да, Зуррат всегда был силён, и неравная схватка со смертью высвобождала сейчас всю его силу, всю до конца, заставляла извлекать её из самых тайных глубин…
Латгери пил, как прежде грозовую воду, пил и старался не обронить ни капли.
Пожалуй, умирать Зуррат будет ещё долго, его мучения вряд ли прервутся до рассвета. А значит, Латгери посетило везение, какого вряд ли дождался бы недостойный. До рассвета надо успеть так насытиться жгучей силой не желающего умирать чужого тела, чтобы обязательно суметь пробудить к жизни тело собственное. А дальше… А там видно будет, что дальше. Сейчас — пить, глотать, впитывать в себя силу… Только бы ничто этому не помешало…
К тому, кто думает о победе, приходит победа. А того, кто ждёт отовсюду погибели, эта самая погибель очень скоро и настигает.
Между переплетением изломанных древесных стволов Латгери увидел цепочку зеленоватых огоньков, то ли отражавших Луну, то ли наделённых собственным светом… Огоньки приближались бесшумно и очень быстро. Серые волки, братья веннов, именовавших себя Волками. Наверняка они теперь прочёсывали чашу в поисках уцелевших врагов…
Латгери даже толком испугаться не успел, настолько всё быстро произошло. Вот вокруг приблизившейся пары зелёных огней сгустилась лесная тьма и обернулась… Ох, что это был за волк!..
Мальчишка, думавший, что уже неспособен чего-либо бояться, испугался до такой степени, что сделал худшее из возможного: представил себя мёртвым. Даже не представил, это не то слово, — на какое-то время он действительно стал мёртвым. Латгери умел это делать, жестокая наука Владыки не прошла даром. Только став мёртвым, можно превратиться в непобедимого воина. Только мёртвый может воистину почувствовать движение чужой жизни. И не просто почувствовать, но и предвосхитить это движение, распознать его задолго до того, как оно состоится. Чтобы оборвать жизнь сильного врага, надо ощутить его жизнь лучше, чем сам враг. А для этого необходимо вначале умереть. Зря ли говорят, что путь воина — это стремление к смерти!
И Латгери умер. Перестал дышать, ощущать страх и ненависть, вообще перестал мыслить. Он не вздрогнул, даже не моргнул, когда холодный волчий нос ткнулся в его лицо. Волк немного постоял над изувеченным мальчишкой, обнюхивая человеческое дитя, зачем-то прикинувшееся пищей, потом отошёл к взрослому человеку, хрипевшему неподалёку.
Этот чужак тоже вошёл в лес со злом. Он умышлял против людей, кровных братьев лесных охотников. В обоих постепенно затихало биение жизни. Хорошо… Незачем вести сюда двуногую родню… Волк, фыркнув, шагнул прочь и сразу исчез, растаял в ночи без следа.
Латгери ощутил его уход и попытался вновь вернуться к жизни. Получалось плохо, погружение в смерть оказалось слишком глубоким. Возвращение и раньше скверно удавалось ему, а уж теперь… Теперь, когда его жизнь трепетала, как язычок пламени на порывистом ветру, а пучины беспамятства обещали такой долгожданный, такой желанный покой…
«Ну нет, — сказал себе Латгери, и ярость вернулась к нему. — Я не умру. Пусть явится настоящая смерть и призовёт меня, но и тогда я ей не поддамся без боя! Никто и ничто не сможет меня победить, покуда я сам не признаю своего поражения! А я его нипочём не признаю…»
Слабо застонав от жестокого напряжения, мальчишка ощутил наконец, что сумел нащупать и зацепиться за тонкую ниточку собственной жизни. Вот и славно. Теперь — вслушиваться в утробные хрипы умирающего Зуррата и пить, пить, пить драгоценную силу, собирать, взращивать, копить её в себе. Латгери ещё поборется, ещё сумеет сразиться с врагами, ощутить сладость крови, выпущенной из их жил. Он ведь Латгери, он непременно сумеет!
Неспроста же Владыка дал ему это имя… И пообещал при всех, что, мол, этот маленький Латгери когда-нибудь станет настоящим Латгаром! А пока и Латгери, стало быть, великая честь! Сказал, и сопляк-мальчишка всей кожей ощутил лютую зависть взрослых, опытных воинов. Ещё бы! Мавут наградил его именем зверя, никогда не сдающегося в бою. Да, он убежит от заведомо более сильного, потому что безрассудная храбрость есть глупость. Но когда бежать некуда, латгар не начнёт трусливо молить о пощаде. Он примет бой, кем бы ни был стоящий перед ним враг. Без страха и сомнений бросится он навстречу погибели и станет биться яростно и отважно. И чего доброго, ещё одержит победу!
Кто же мог предвидеть, что решительный бой придётся вести в мокром ночном лесу, где никто не увидит его малодушия и не воспоёт его мужества… Латгери всё равно не сдастся и не отступит, просто потому, что он — не кто-нибудь, а Латгери! Крысёныш!
Небо в восточной стороне начинало понемногу светлеть и вот уже явственно засинело, отделилось от чёрной стены леса, густая предрассветная тьма начала таять и торопливо отбегать в по-прежнему непроглядную чащу… Всё равно даже там ей не отсидеться! Ещё немного, и юный Бог Солнца явит себя просыпающемуся миру, согреет его ласковым теплом, озарит ярким светом, от которого тьме не спастись и в самом густом подлеске, под старыми корягами и замшелыми валежинами. В кротовые норы, в глубокие подземелья загонит её пресветлое утро…
Сторонний путник, бредущий без дороги глухими лесами веннской страны, этого самого утра ждал бы если не как избавления, то уж точно как позволения снова тронуться в путь. Не таковы здешние чащи, чтобы кто попало разгуливал здесь по ночам! Тут же провалится нога сквозь сплетение скользких корней, и хорошо, если кости не хрустнут. А вытащишь ногу, и в лицо, в самые глаза ткнутся острые, обломанные концы нависших ветвей. Успеешь отвести их ладонью, и вот уже крутанулся камень под сапогом, и вот уже ты съезжаешь куда-то с отвесного гранитного лба, и не за что зацепиться, и высоко ли падать и что ждёт на дне — неведомо, покуда не долетишь…
Надо думать, такого путника насмерть перепугали бы шестеро молодых Волков, парней и подростков, легконогих и босых, во всю прыть бежавших сквозь подёрнутые туманом непролазные дебри. Мелькнули бы в самых дальних отсветах костерка — и исчезли, не остановившись, даже шага не сбив… и оставив бедного путника до утра творить охранительные знамения: люди то пробежали? Или, может, бесплотные духи лесные?..
А им что, Волкам, они были здесь дома. И лес свой знали не хуже, чем избы с дворами. Те самые ловчие корни и опасные кручи стелились им под пятки ровной дорожкой, а хищные сучья лишь расчёсывали пепельно-русые кудри.
Особенно теперь, когда венны из рода Волков спешили ему, лесу, на помощь.
Ну ладно, не всему лесу, конечно, а только одному существу, ждавшему спасения, но всё равно…
Перепрыгивая кусты, Бусый всё прислушивался к ровному дыханию бежавшего сзади Ульгеша. Была у чернокожего парнишки удивительная способность пускаться с другом-венном, с Бусым то есть, в разные вылазки, куда его звать, в общем-то, не собирались, полагая затеваемое дело чуждым Ульгешу и по рождению, и по сноровке, — а он увязывался всё равно, причём делал это как-то так, что замечали его уже погодя, когда поздно бывало ради него возвращаться. И шёл себе, и, глядишь, радел о веннских делах, словно тут родился, да ещё и сноровку являл вполне удивительную для умника и тихони. Что когда-то на лыжах, что вот теперь. Видно, правду молвил дедушка Аканума, отец парня действительно был великим вождём. А и не ошиблась веннская поговорка, утверждавшая — доброй крови не спрячешь… как и дурной…
Двое друзей быстрыми ящерицами пробирались сквозь месиво изувеченных стволов, мягко касаясь, словно поглаживая их ладонями. И Бусого вдруг остро кольнула жуткая мысль, что опорой его рукам служили не бесчувственные брёвна, а ещё живые, израненные тела. Не умея отступать, зелёные воители приняли неравный бой с лютым врагом, пали на родную землю и теперь отдавали ей последнюю кровь. И даже того больше: воины эти его, Бусого, ласковые прикосновения ощущали и всем сердцем на них откликались…