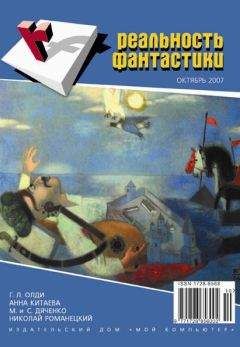Искал он компьютерный клуб, давший объявление в местном рекламном листке. Он позвонил. Собеседник, даже не видя его, по одному картавому выговору определил про себя соискателя четким словом «тормознутый», но заведеньице было бедное и захолустное… На самом деле клуб находился метрах в трехстах от того места, где сейчас стоял молодой человек, в приземистой постройке внутри исполинского колодца, образованного восемнадцатиэтажными корпусами. Вместе с ним там ютились аптека, зоомагазин и лавочка канцтоваров. Многоэтажки загораживали постройку от взгляда, а на вид для клуба, по бедности, вполне годился и дом за пустырем.
Парень пошел, меся ботинками грязь; потом грязь сменилась крохотными стрелочками молодой травы и остатками асфальтовой дорожки. Порывами налетал мокрый и сладкий весенний ветер, за спиной взревывали машины, так что пугающей тишиной здесь не отдавало…
Дом приблизился. Он был больше, чем казался издалека. На крепкие древесные стволы было приятно смотреть, и один, совсем близко подступивший к тропке, молодой человек даже погладил своей мягкой ладонью. Никакой вывески он на доме не нашел. Должно быть, ее просто не успели заказать, и он решил зайти в каждый из двух подъездов: клуб, скорее всего, находился в подвале.
Подъезд он почему-то выбрал не тот, что был рядом, а другой. Там был шиповник и столбики от сгнившей скамеечки, а может, этот выбор определила более внушительная и жилая дверь.
Перед ней-то он и замешкался. Только сейчас возникло молчание — возможно, он ступил в него. Звуки недалекой дороги сюда не доносились. Он с удивлением и некоторой брезгливостью заметил, что все стало каким-то липким — дверная ручка, старый асфальт под ногами, ресницы, даже мысли, которые ворочались медленнее и неохотнее, чем обычно. Все-таки он открыл дверь — ее пришлось рвануть, заело — и вошел.
Не было здесь никакого клуба, даже намека на него, но он отчего-то точно знал, что пришел искать и уже нашел. Что он должен был найти в незнакомом доме, было неведомо, поднялась смутная боязнь, но чувства его сейчас были слишком медленными, и она не успела стать решением. Последняя мысль сказала, что надо бы оставить дверь открытой, поскольку лампочки в подъезде, конечно же, выбиты. Но та упорно не желала распахиваться, — назад ее тянула не потусторонняя сила, а старая могутная пружина, — и он смирился. Дверь закрылась.
Он стоял на крохотном пятачке между дверью и короткой лестницей на первый этаж. В доме было тихо, но не мертвенной тишиной, а так, как тихо бывает там, где легли спать. Слух не уловит беззвучное дыхание за толстой стеной, но шестое чувство, воспринимая неизвестно что — неощутимое тепло живых тел, тени чужих снов или биение пульса — уверенно скажет, что здесь люди… В подъезде было темно и промозгло, но тут, несомненно, жили.
Он оглядел бело-зеленые обшарпанные стены, положил руку на перила, давным-давно покрашенные в рыжий цвет; понял, что собирается подняться. Куда можно подняться в трехэтажном доме, не на смотровую площадку же… Пока между ушами возникла и минула эта мысль, под ногами успели смениться несколько ступенек.
Послышались шаги. Он еще не разобрался, вздрагивать ему или переводить дух, как со второго этажа протопала толстая девочка лет четырех в одних трусах. Ее тугие черные косички торчали в разные стороны и блестели, как намасленные, в руках ходуном ходил большой надувной мяч, такой же круглый, как ее животик. Девочка окинула его серьезным взглядом и направилась к двери.
— Эй, ты куда голая? — невольно окликнул он. — Простудишься.
— Ты чиво? — басом сказала кроха. — Жалища. Сам посмотли.
Отчего-то он не последовал за ней на улицу, а взбежал на площадку между этажами и глянул в пыльное изгвазданное окно.
Пустыря не было.
Не было и апреля, за грязным стеклом сиял шумливый июль, на скамейках рядками сидели мамаши, вязали и окрикивали своих чад, которые метались из конца в конец маленького дворика, обрамленного зарослями прохладных кустов.
Картина манила в себя. Ее правильность, реальность, тысячекратно большая, чем реальность пустыря и гаражей, пронзала; и искры летнего солнца, пробившиеся сквозь мутное стекло, заставляли его часто смаргивать.
— А я тибя знаю, — сказали басом за его спиной. — Ты дядя Андлей из шестой квалтилы. Кибилнетик.
Он обернулся, все-таки вздрогнув от неожиданности. Давешняя девчушка стояла у него за спиной, почему-то уже без мяча, и глядела, надув губы.
— Ага, — зачем-то сказал он. Он и впрямь был Андреем, окончившим кибернетику, хотя жил не в шестой квартире и определенно не здесь.
Через секунду он начал сомневаться в этом. Через две перестал.
Андрей еще немного постоял у окна, разглядывая площадку. Удивление, и без того слабое, померкло, он все тверже знал, что немыслимое событие — самое естественное из всего, что могло произойти здесь в этот день. Страха же не было вовсе. Он сильнее испугался бы не только брошенного аварийного дома, но и пресловутого клуба, в который ему пришлось бы наниматься.
Потом он подумал, что пора уходить. И острое, самое острое из всех чувств, какие он когда-либо испытывал, — стремление остаться здесь — скрутило его так, что он впился пальцами в лупящийся беленый подоконник, будто чья-то угрюмая воля силком тащила его назад.
Тут же он узнал, что может решать; перед ним — не дразнящий мираж или негаданный подарок, а лишь то, что есть. Злое право выбора принадлежит ему так же, как право дышать…
И его нежелание вмиг овеществило все три этажа дома за пустырем, несколько улиц вокруг, полных зелени, а он уже знал, что дверь вовне находится в магазине-стекляшке за углом, нужно пойти туда, взяться за ручку, и отчаянно, исступленно пожелать вернуться.
Он пошел.
Купил в стекляшке хлеба, моркови, колбасы и боржома, заплатил в каком-то сомнамбулическом состоянии, даже не осознав, сколько и чего, и вернулся в дом. Ключи от квартиры нашлись в кармане штанов.
Все еще в полусне Андрей обошел ее — две комнаты, кухню, ощупал неновую мебель — ее вид пробуждал к жизни чужие — его — воспоминания: о том, как покупал, как спал на диване, как прожег стол сигаретой. Так, казалось бы, намертво забытые алгебраические формулы оживают, стоит открыть обветшавший, пожелтевший учебник — и вместе с ними возвращаются прокуренный голос математички, унылый линолеум, пахнущий половой тряпкой, и тупое плоское лицо соседа по парте.
Он прожил несколько дней. Сам Андрей думал об этом так, как люди думают редко. «Я прожил эти дни там-то» или «таким-то образом», но не «я прожил»; такое чувство, возможно, испытывают больные или солдаты… Он будто с усилием продирался сквозь время и место, шел по грани яви и сна. Во сне он ходил по магазинам, читал, прибирался и готовил немудрящую холостяцкую пищу, спокойный и всем довольный. С каждым новым пробуждением нежелание возвращаться было все жарче, но он все же силился понять, — скорее по привычке, чем из настоящего стремления.