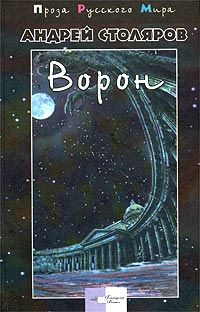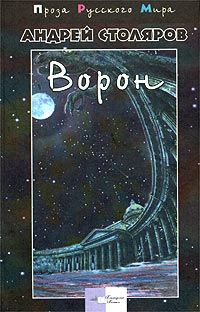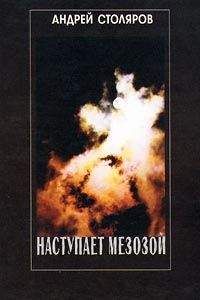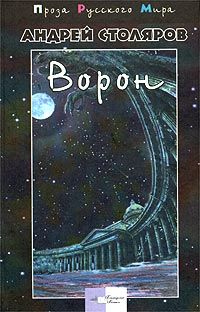— Надо учиться видеть сразу изнутри. Смотреть оттуда. Не форма, а содержание — тогда получится…
— Главное, начальник у тебя будет хороший. Это я ручаюсь. Давить не станет. Когда и отпустит пораньше. На редкость приличный человек. Сейчас таких поискать. Я — начальник. Меня повысили.
Антиох крепко зажмурился и сказал:
— Вероятно, можно создать другой мир. Ничуть не хуже. Такой же реальный, как и существующий. Они — знали. Они подошли вплотную, к последней черте. Нужно было сделать еще один шаг. Всего один. Не хватило смелости. Или воображения…
Я сдался. Я всегда сдаюсь, когда кто-то ставит себя рядом с Гегелем. Или выше. Я, например, не ставлю. Мне и в голову не приходит. Гегель — это Гегель, а я — это я. Разные мы люди. Но Антиох был, как глухой. Вещал, прикрыв веки, сплетя костяные пальцы. Я не видел его месяца три, и он здорово изменился. Высох как-то, потемнел. Движения стали резкие. В глазах появился влажный блеск.
Лучше не связываться.
Этим летом необычайно цвели тополя. Рогатые сережки, как гусеницы в неисчислимом множестве выползали из ветвей. Лопались. Печальный шелест наполнял город. Мириады белых хлопьев текли в воздухе — крутясь, взметывались над мостовой. Медленно и светло в стоячей тишине лился по оторопелым улицам густой летний буран. Пух лежал на карнизах, собирался вдоль тротуаров, сугробами пены плыл по зеленой воде. Началось это неистовство неделю назад и с каждым днем усиливалось — накаляясь, доходя до безумия, выбрасывая ежечасно новые и новые облака горячего тополиного снега.
Одновременно навалилась оглушающая жара. Волны прозрачного зноя бродили по площадям. Небо сразу выцвело. Камень обжигал. Ртуть ушла за тридцать, и светлый блеск ее тонул в болотном мареве города. Плавился асфальт — приклеивая подошвы. Солнце до крыш затопило беспомощные дома. Трещали стекла. Фиолетовый воздух дрожал. Очарованной белизной сияли широкие проспекты. По дну их, как слепые, судорожно метались машины, нарушая все запреты, раздирали небо отчаянными криками.
В парках полопалась сухая земля. Трава сгорела, газоны ощетинились хрупким пеплом.
Невозможно было жить в эти дни. Сознание меркло — падали прямо на улицах. Путали адреса, не узнавали знакомых. В учреждениях мертвели брошенные столы, в магазинах исчезли очереди. Духота пропитывала влажные стены квартир. Телевизоры глохли. Вода из кранов шла теплая, больная, вызывала тоску и отвращение к жизни.
— Создать новый мир, — сказал Антиох. — Собой заполнить все, что есть. Сделать людей, землю, ночной звездный купол. Миросоздание… И вместе с тем — мироумирание. Ведь делать приходится из себя. Другого материала нет. Чем больше мой мир, тем меньше я. И тем бледнее, тоньше все это.
Распахнул невидящие глаза.
— Помнишь, мы говорили об абсолютном тексте?
— Нет, конечно, — сказал я, обмахиваясь потной ладонью. — И не надейся. Не хватало еще помнить…
— Он есть, — очень серьезно сказал Антиох. Замер. Глядя в одну точку, повел пальцем в воздухе, по невидимой строке. — Недобрые были знамения. Подходившие обозы видали белых волков, страшно подвывавших на степных курганах. Лошади падали от неизвестной причины. Кончились городки и сторожки, вошли в степи Дикого поля. Зной стоял над пустынной равниной, где люди брели по плечи в траве. Кружились стервятники в горячем небе. По дальнему краю волнами ходили миражи. Закаты были коротки — желты, зелены. Скрипом телег, ржанием лошадей наполнилась степь. Вековечной тоской пахнул дым костров из сухого навоза. Быстро падала ночь. Пылали страшные звезды. Степь была пуста — ни дорог, ни троп. Все чаще попадались высохшие русла оврагов. От белого света, от сухого треска кузнечиков кружились головы. Ленивые птицы слетались на раздутые ребра павших коней…
То ли погода действовала, то ли что. У меня слабо кольнуло сердце. Перевернулись стены. Солнце хлынуло прямо в лицо. Встал слепящий туман. Комната задрожала и расплылась. Мелькнули какие-то тени. Голос Антиоха доносился издалека — комариным писком. Дунул горячий ветер. Волнами пошла шелковая, поющая трава. Острый запах земли ударил в нос. Каркнула ворона — складывая треугольные крылья, понеслась низко над степью. Упала в ковыли. Белый матерый волк, облизав розовым языком морду, строго смотрел на меня. Желтели беспощадные глаза. Зрачки быстро сужались и расширялись. Локтями я чувствовал раму окна, а под ногами пол. Но их не было. Бездонное, невероятной синевы небо легло на горизонт. Долетело невнятное: скрип… оклики… щелканье кнутов… Волк махнул хвостом и попятился…
Антиох тряс меня за плечи. Заглядывал с острым любопытством — вытянув шею. Жадно спросил: — Что, что, что?
— Ну ты и того — совсем уже… — обалдело сказал я.
— Видел?
— Фу-у…
Он стал быстро-быстро обкусывать ноготь на большом пальце.
— Было так: все померкло, свет погас. Некоторое удушье, не хватает воздуха, стеснение в груди. И вдруг, сразу — лес, малиновое солнце, черные, громадные ели. Стонут и качаются. Синие лишайники. Крохотный огонь на папоротнике. Птицы поднимаются из сумеречной травы и тянутся к закату.
— Пошел ты куда подальше, — ответил я, окончательно приходя в себя. — Ерундой тут занимаешься, словоблудием…
— Я тоже не отчетливо представляю, — отпуская меня, с сожалением сказал Антиох. — Чувствую, а увидеть не могу — как сквозь мутное стекло.
Поднял с пола книгу, задумчиво открыл, скользнул по тексту, и вдруг, не торопясь, как будто так и надо, начал выдирать страницу за страницей — с мучительным треском.
Меня ужасно клонило в сон. Веки слипались, и в голове была гулкая пустота. Напрасно я пришел. Ему уже ничем не поможешь. Бесполезное это занятие.
Кто-то тронул за локоть. Буратино, слезший с кровати, стоял передо мной. Лицом к лицу. Чуть не протыкая носом.
— Дай закурить, дядя, пересохло от ваших разговоров, — хрипловатым голосом сказал он. — Ну чего уставился? Папиросы не найдется? — не дождавшись, махнул рукой. — А… все вы тут чокнутые…
— Неслабая игрушка, — сказал я, машинально отталкивая колючий нос.
— Сам ты игрушка, дядя, — обиделся Буратино.
И, неожиданно нырнув вперед, больно укусил меня за палец мелкими, острыми зубами.
Неделю спустя я возвращался домой.
Было уже поздно. День давно сгорел и легкий пепел его развеялся. Сошла темнота. Проступили мохнатые звезды. Мигали в каменной духоте над горбатыми крышами. Лунный свет застыл в тихих улицах. Светились мутные рельсы. Бесшумно, как бабочки, пролетали по ним цветные огни трамваев.
Переулок, где я жил, тянулся от проспекта до канала. Он был узкий и кривой. Будто средневековый. Давясь слабым эхом, торопливо глотал мои шаги. Разевал звериные пасти подворотен.