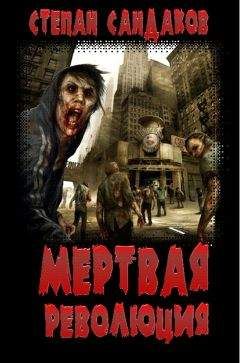Вернувшись от больного на ночь в свои два нумера, Левин сидел, опустив голову, не зная, что делать. Не говоря уже о том, чтоб ужинать, устраиваться на ночлег, обдумывать, что они будут делать, он даже и говорить с женою не мог: ему совестно было. Кити же, напротив, быта деятельнее обыкновенного. Она даже была оживленнее обыкновенного. Она велела принести ужинать, сама разобрала вещи, сама помогла стлать постели и не забыла обсыпатъ их персидским порошком. В ней было возбуждение и быстрота соображения, которые появляются у мужчин пред сражением, борьбой, в опасные и решительные минуты жизни, те минуты, когда раз навсегда мужчина показывает свою цену и то, что все прошедшее его было не даром, а приготовлением к этим минутам.
Все дело спорилось у нее, и еще не было двенадцати, как все вещи были разобраны чисто, аккуратно, как-то так особенно, что нумер стал похож на дом, на ее комнаты: постели постланы, щетки, гребни, зеркальца выложены, салфеточки постланы.
Левин находил, что непростительно есть, спать, говорить даже теперь, и чувствовал, что каждое движение его было неприлично. Она же разбирала щеточки, но делала все это так, что ничего в этом оскорбительного не было.
Есть, однако, они ничего не могли, и долго не могли заснуть, и даже долго не ложились спать.
– Я очень рада, что уговорила его завтра собороваться, – говорила она, сидя в кофточке пред своим складным зеркалом и расчесывая частым гребнем мягкие душистые волосы. – Я никогда не видала этого, но знаю, мама мне говорила, что тут молитвы об исцелении.
– Неужели ты думаешь, что он может выздороветь? – сказал Левин, глядя на постоянно закрывавшийся, как только она вперед проводила гребень, узкий ряд назади ее круглой головки.
– Я спрашивала доктора: он сказал, что он не может жить больше трех дней. Но разве они могут знать? Я все-таки очень рада, что уговорила его, – сказала она, косясь на мужа из-за волос. – Все может быть, – прибавила она с тем особенным, несколько хитрым выражением, которое на ее лице всегда бывало, когда она говорила о религии.
После их разговора о религии, когда они были еще женихом и невестой, ни он, ни она никогда не затевали разговора об этом, но она исполняла свои обряды посещения церкви, молитвы всегда с одинаковым спокойным сознанием, что это так нужно. Несмотря на его уверения в противном, она была твердо уверена, что он такой же и еще лучше христианин, чем она, и что все то, что он говорит об этом, есть одна из его смешных мужских выходок, как то, что он говорил про broderie anglaise: будто добрые люди штопают дыры, а она их нарочно вырезывает, и т. п.
– Да, вот эта женщина, Марья Николаевна, не умела устроить всего этого, – сказал Левин. – И… должен признаться, что я очень, очень рад, что ты приехала. Ты такая чистота, что… – Он взял ее руку и не поцеловал (целовать ее руку в этой близости смерти ему казалось непристойным), а только пожал ее с виноватым выражением, глядя в ее просветлевшие глаза.
– Тебе бы так мучительно было одному, – сказала она и, подняв высоко руки, которые закрывали ее покрасневшие от удовольствия щеки, свернула на затылке косы и зашпилила их. – Нет, – продолжала она, – она не знала… Я, к счастию, научилась многому в Содене.
– Неужели там такие же были больные?
– Хуже.
– Для меня ужасно то, что я не могу не видеть его каким он был молодым… Ты не поверишь, какой он был прелестный юноша, но я не понимал его тогда.
– Очень, очень верю. Как я чувствую, мы бы дружны были с ним, – сказала она и испугалась за то, что сказала, оглянулась на мужа, и слезы выступили ей на глаза.
– Да, были бы, – сказал он грустно. – Вот именно один из тех людей, о которых говорят, что они не для этого мира.
– Однако нам много предстоит дней, надо ложиться, – сказала Кити, взглянув на свои крошечные часы.
XX
Смерть
На другой день больного причастили и соборовали. Во время обряда Николай Левин горячо молился. В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Левин знал, что эта страстная мольба и надежда сделают только еще тяжелее для него разлуку с жизнью, которую он так любил. Левин знал брата и ход его мыслей; он знал, что неверие его произошло не потому, что ему легче было жить без веры, но потому, что шаг за шагом современно-научные объяснения явлений мира вытеснили верования, и потому он знал, что теперешнее возвращение его не было законное, совершившееся путем той же мысли, но было только временное, корыстное, с безумною надеждой исцеления. Левин знал тоже, что Кити усилила эту надежду еще рассказами о слышанных ею необыкновенных исцелениях. Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд и на эту исхудалую кисть руки, с трудом поднимающуюся и кладущую крестное знамение на туго обтянутый лоб, на эти выдающиеся плечи и хрипящую пустую грудь, которые уже не могли вместить в себе той жизни, о которой больной просил. Во время таинства Левин молился тоже и делал то, что он, неверующий, тысячу раз делал. Он говорил, обращаясь к богу: «Сделай, если ты существуешь, то, чтоб исцелился этот человек (ведь это самое повторялось много раз), и ты спасешь его и меня».
После помазания больному стало вдруг гораздо лучше. Он не кашлял ни разу в продолжение часа, улыбался, целовал руки Кити, со слезами благодаря ее, и говорил, что ему хорошо, нигде не больно и что он чувствует аппетит и силу. Он даже сам поднялся, когда ему принесли суп, и попросил еще котлету. Как ни безнадежен он был, как ни очевидно было при взгляде на него, что он не может выздороветь, Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении.
– Лучше. – Да, гораздо. – Удивительно. – Ничего нет удивительного. – Все-таки лучше, – говорили они шепотом, улыбаясь друг другу.
Обольщение это было непродолжительно. Больной заснул спокойно, но чрез полчаса кашель разбудил его. И вдруг исчезли все надежды и в окружающих его и в нем самом. Действительность страдания, без сомнения, даже без воспоминаний о прежних надеждах, разрушила их в Левине и Кити и в самом больном.
Не поминая даже о том, чему он верил полчаса назад, как будто совестно и вспоминать об этом, он потребовал, чтоб ему дали йоду для вдыхания в стклянке, покрытой бумажкой с проткнутыми дырочками. Левин подал ему банку, и тот же взгляд страстной надежды, с которою он соборовался, устремился теперь на брата, требуя от него подтверждения слов доктора о том, что вдыхания йода производят чудеса.
– Что, Кати нет? – прохрипел он, оглядываясь, когда Левин неохотно подтвердил слова доктора. – Нет, так можно сказать… Для нее я проделал эту комедию. Она такая милая, но уже нам с тобою нельзя обманывать себя. Вот этому я верю, – сказал он и, сжимая стклянку костлявой рукой, стал дышать над ней.
В восьмом часу вечера Левин с женою пил чай в своем нумере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы ее дрожали.
– Умирает! – прошептала она. – Я боюсь, сейчас умрет…
Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокотившись рукой, на кровати, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.
– Что ты чувствуешь? – спросил шепотом Левин после молчания.
– Чувствую, что отправляюсь, – с трудом, но с чрезвычайною определенностью, медленно выжимая из себя слова, проговорил Николай. Он не поднимал головы, но только направлял глаза вверх, не достигая ими лица брата. – Катя, уйди! – проговорил он еще.
Левин вскочил и повелительным шепотом заставил ее выйти.
– Отправляюсь, – сказал он опять.
– Почему ты думаешь? – сказал Левин, чтобы сказать что-нибудь.
– Потому, что отправляюсь, – как будто полюбив это выражение, повторил он. – Конец.
Марья Николаевна подошла к нему.