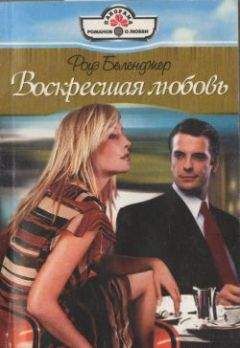Больше Фарреллу никакими подковырками ничего из нее вытянуть не удалось. Он оставил эту тему и нарочно сказал: «Выглядит далеко не так увлекательно, как работа с гончарным кругом», – позволив ей обратиться к любимому предмету, к керамике. О керамике Фаррелл знал ровно столько, чтобы иметь возможность задавать достаточно разумные вопросы, но ему нравилось наблюдать за Джулией, когда она говорила о ремеслах, которыми владела.
После завтрака он подвез ее до работы – в университет, где она делала научные и медицинские иллюстрации.
– Поперечные сечения позвоночника, детальные изображения надпочечной железы. Мне это нравится. И у меня хорошо получается.
Она работала здесь уже больше года.
– А красками ты больше не пишешь? – спросил он. – Придется отобрать у тебя мольберт.
Пять лет назад, в Оберлине он сделал для нее мольберт, она тогда вернулась на семестр в школу живописи. Джулия мельком улыбнулась, глядя на свои руки.
– Да и никогда не писала, – сказала она. – Не умею. Я умею рисовать, вот этим и занимаюсь.
Фаррелл сказал:
– Джевел, ты все умеешь. Это, может быть, жизнь мою переменило – сознание, что ты умеешь все.
– Да какое там все! – резко выкрикнула она. – Жаль разрушать твои иллюзии, но я уже бросила себя дурачить. Перестань, черт возьми, и ты выдумывать меня – для этого тоже настало самое время.
Фаррелл услышал, как у нее перехватило горло, как клацнули зубы. После этого Джулия молчала, пока он не остановил автобус у кампуса, так близко к ее кабинету, как мог. Он открыл перед ней дверь и помог ей спуститься на землю – это началось как рыцарская шутка, а закончилось тем, что оба застыли среди куч волглых бумажных тарелок и драных политических плакатов, положив руки друг дружке на плечи.
– И что будет дальше? – спросил он. – Кто мы теперь друг другу?
Джулия задумчиво ткнула его в живот.
– Господи, – сказала она. – Как подумаю, что могла прожить целую жизнь, ничего не узнав об этом пупке.
Она одернула его рубашку и аккуратно заправила ее.
– Около полудня я выхожу на ленч, – сказала она.
– Я в это время буду искать работу. Давай встретимся за обедом.
– Рядом с «Ваверли» есть марокканский ресторан. Будем с тобой есть кус-кус. Я ведь тебя знакомила с кус-кусом?
– На Рю-дю-Фуа. А ты знаешь, что мы никогда не ели дважды в одном месте?
– Нет, – сказала она. – Серьезно?
Он кивнул, полагая, что Джулия рассмеется, но она выглядела напуганной и печальной. Фаррелл сказал:
– Да будет тебе, все в порядке. Чего-чего, а ресторанов в Авиценне хватает.
– Разве это порядок? – откликнулась она.
Отзвук боли в ее голосе был для Фаррелла столь же нов, как если б она закаркала или заскулила.
– Бедное пальтецо, – сказала она, и стиснув его ладони в своих, поднесла их к губам, глядя поверх них на Фаррелла насмешливо и изумленно.
– Ты только не выдумывай меня, вот и все, – сказала она. – В семь у Фуада.
Нежно прикусив пальцы Фаррелла, она оставила его – смотреть, как спокойные ноги уносят ее по гравиевой дорожке, а там и за дверь. Мгновенная догадка, что он больше никогда ее не увидит, стеснила его дыхание, совсем как вчера. Все, что ты можешь – это раз за разом смотреть, как кто-то уходит. Вот почему, вопреки собственной воле, вопреки тому, что он сказал Бену в бассейне, он все еще оплакивал – по-дурацки, сам на себя негодуя – такое множество обреченных на гибель ландшафтов, существ, способов существования, ни единого разу им не виданных. Ощущать утрату, знать, что мы теряем. Помнить. Быть может, это, в конце концов, и получается у меня лучше всего. Надеюсь, что нет. Он залез обратно в автобус и поехал в холмы, к Бартон-парку, посмотреть, не найдется ли в «Зоо» какой-либо работы.
Работа нашлась только одна: шесть раз в неделю после полудня водить по зоосаду имеющий обличие аллигатора электрический поезд, рассказывая пассажирам о животных, которых они видят в пути. Фаррелл, питавший надежду, что ему удастся пристроиться поближе к гориллам, тем не менее привередничать не стал – все же работа была на открытом воздухе и в меру бездумная. Он согласился начать в следующий понедельник и получил карту маршрута и текст, который ему надлежало запомнить. В тексте наличествовало пять с половиной подчеркнутых красным шуток.
Он думал переодеться, но добравшись до дому, обнаружил, что подъездную дорожку перегораживает пожилой желтый «понтиак» с ржавой вмятиной на переднем крыле. Припарковав Мадам Шуман-Хейнк кварталом дальше, Фаррелл пошел к дому. Позади «понтиака», там, где он влетел на дорожку, виднелись следы заноса, срезавшего два Беновых скворечника и в клочья изодравшего небольшую купу дикого розмарина. Водитель, все еще сидевший за рулем и бессмысленно тыкавший пальцем в кнопки на панели управления, заслышав шаги Фаррелла, поднял глаза и распахнул дверцу.
– Привет, – сказал он веселым, немного мальчишеским голосом. – Слушай, ты мою жену не видел?
Он был моложе Фаррелла – круглое, крепкое, с глубоким загаром лицо под шлемом для серфинга на жестких белесых волосах. Бачки, густые и колючие, немного темнее волос, но усы и вовсе бесцветные, сразу не заметишь. Фарреллу бросилась в глаза кровоточащая нижняя губа.
– Не думаю, – ответил Фаррелл.
Молодой человек вылез из машины, как только Фаррелл с ней поравнялся. Сбит он был основательно – почти с Фаррелла ростом, но фунтов на двадцать потяжелее. Он сказал:
– Но ты ведь ее увидишь?
Фаррелл удивленно уставился на него. Молодой человек, улыбаясь, придвинулся ближе.
– Я хочу сказать, раз ты сюда заявился, в этот дом, ты же увидишь ее, так? Она ведь здесь работает, так?
– А-а, Сюзи, – не задумываясь, сказал Фаррелл и немедленно об этом пожалел. Дружелюбное выражение молодого человека не изменилось, но как-то застыло, словно он умер.
– Точно, Сюзи Мак-Манус, ты правильно понял. Добрая старая Сюзи. Ну, а я Дейв Мак-Манус. Дейв Мак-Манус. Добрый старый Дейв.
Он стиснул ладонь Фаррелла и принялся трясти ее и тряс долго и ласково, все время глядя Фарреллу прямо в глаза. Ладонь была холодной, влажной и жесткой. Фарреллу и раньше приходилось сталкиваться с мертвецки пьяными людьми, но не так часто, чтобы он опознавал их с первого взгляда. Однако само это состояние было ему знакомо – товарняк, летящий, громыхая и забавно мотаясь, от буйной веселости к слюнявой печали, набирающий скорость, пока его несет сквозь бессмысленную ярость к дикой рвоте, а от нее – движением гладким и почти беззвучным – в темные области озноба, пота и слез и после без предупреждения снова наружу, туда, где все, наконец, успокаивается в снежно-слепящем сиянии. Мак-Манус не покачивался, не бормотал, от него и спиртным-то почти не пахло, но Фаррелл начал отступать от него. С каждым его шажком улыбка Мак-Мануса становилась все щире.