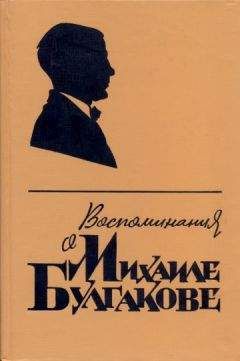Мышлаевский. Подозрительная личность. ‹…›
Алексей. Он был пророк! Ты знаешь, он предвидел все, что получится. Смотри, вон книга лежит — „Бесы“. Я читал ее как раз перед вашим приходом. Ах, если бы это мы все раньше могли предвидеть!»
После этого, в пьяном кураже, как и в окончательной редакции, капитан начинает стрелять в воображаемых комиссаров, потом все поют гимн «Боже, царя храни», и действие вновь перебивается сценой у Василисы, разрезающей настроение акта.
Поразительна музыкальная цепкость, с которой Булгаков в очередной турбинской сцене, завершающей огромное первое действие, вновь дает «соло» теме «Бесов», в претворенном виде намечающей самую горькую и мучительную тему книги и пьесы — тему народа, который «не с нами», а «против нас». При этом Булгаков в коротком диалоге как бы прессует в одно целое весь набор житейских клише и штампов интеллигентского обывательского сознания, которое пытается разгадать происходящее «по написанному в книгах»:
«Мышлаевский. Пороть их надо, негодяев, Алеша. (Это по поводу „богоносцев“. — А. С.)
Алексей. Вот Достоевский это и видел и сказал: Россия страна деревянная, нищая, а честь русскому человеку только лишнее бремя!
Шервинский. На Руси возможно только одно. Вот правильно сказано: вера православная, а власть самодержавная.
Николка. Правильно! Я, господа, неделю тому назад был в театре на „Павле I“, и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: правильно! ‹…› Что же вы думаете? Кругом стали аплодировать, и только какой-то мерзавец в ярусе крикнул: идиот. ‹…›
Студзинский. Это все евреи наделали…»
Булгаков к финалу первого акта предельно сгущает атмосферу тупиковой идейной ситуации, жалкой бравады и растерянности людей, которые теряют историческую почву. Он завершает действие поцелуем Елены и Шервинского, на поцелуй появляется Николка, обалдевший от неуместного зрелища. Лариосика еще нет и в помине. Булгаков строго идет по сюжетной канве романа, держится за него крепко, но пытается найти какие-то драматические ходы для выявления в пьесе мощного лирического начала прозы.
С этой целью в первой редакции пьесы он развивает поэтику снов, играющих и в романе и во всем творчестве Булгакова важнейшую роль. Первая редакция и здесь предвосхищает мир будущего драматурга. Может быть, нигде это не обнаруживается с такой ясностью, как в первой картине второго акта, которой и следа не останется в тексте каноническом.
Упомянутый в романе сон Алексея Турбина Булгаков развертывает в большой эпизод, имеющий для пьесы первостепенное значение. К Алексею, заснувшему над книгой Достоевского, является Кошмар: «лицо сморщено, лыс, в визитке семидесятых годов, в клетчатых рейтузах, в сапогах с желтыми отворотами». Диалог Турбина с Кошмаром пародийно проигрывает известную беседу Ивана Карамазова с чертом (в этом, вероятно, был еще скрытый намек: эпизод должен был восприниматься на фоне знаменитой сцены «кошмара» из спектакля «Братья Карамазовы», в которой В. Качалов играл и за Ивана, и за черта).
Кошмар в булгаковской пьесе ведет себя с той свободой, какая дарована персонажам сна: он поет Николкины песни, наполняет сцену гитарным звоном, наконец, «вскакивает на грудь Алексея и душит его». Своего литературного происхождения он не скрывает: «Я к вам с поклоном от Федора Михайловича Достоевского…»
Перед нами — первая в искусстве Булгакова, так сказать, пробная встреча нечистой силы, знающей сложность бытия, причастной родному ей хаосу, с «точечным» человеческим разумом, который хаоса допустить не может и пытается все логически объяснить и связать.
Через несколько лет в последнем романе Булгакова Иван Бездомный будет толковать цепочку, загаданную Воландом, пытаясь как-то совместить Аннушку, разлившую постное масло, с Понтием Пилатом.
В первой редакции «Белой гвардии» Алексей даже во сне пытается мыслить логически, разумно и ни в коем случае не допустить реальности бреда, вернее, бредовой реальности, не поддающейся никакой логике.
«Алексей. Отойди, отойди. Гансилезы — это вздор. Такого слова нет. И тебя нет. ‹…›
Кошмар. Ошибаетесь, доктор, я не сон. Я самая подлинная действительность, да и кто может сказать, что такое сон? Кто. Кто?»
И Кошмар, доказывая свою силу, предсказывает будущее примерно в том стиле, в каком Воланд будет нагадывать Берлиозу на Патриарших прудах.
«Алексей. Что? Что? Что?
Кошмар. Очень нехорошие вещи. (Кричит глухо.) Доктор, не размышляйте, снимите погоны».
Традиционное сознание не выдерживает чудовищной нагрузки, концы и начала совершенно не связываются, никакой разумной цепочки не возникает.
«Алексей. Уйди, мне тяжко… ты кошмар. Самое страшное — твои сапоги с отворотами. Бррр… Гадость. Таких отворотов никогда не бывает наяву.
Кошмар. Как так не бывает? Очень даже бывает, если, например, кожи нет в Житомире».
Не надо подробно объяснять, какие богатейшие всходы даст плодоносный корень этого диалога в искусстве Булгакова.
Отсутствие кожи в Житомире, внезапное, по приказу Кошмара, появление рожи полковника Болботуна на изразцах камина — все это кажется расстроенными нервами, безумием, противоречием, которое нужно немедленно снять. Абсурд и хаос происходящего бросают вызов традиционному сознанию с унаследованной философией «разумного, доброго, вечного». «Я прекрасно сознаю, что я сплю и у меня расстроены нервы. Вон, а то я буду стрелять. Это все миф, миф», — кричит Алексей своему неуловимому врагу.
Словечко «миф» не только турбинское, но и авторское, из романа. Этим словом объяснялась и отвергалась не имеющая логики жизнь, в которой подорваны естественные и, казалось бы, вечные основания разума и добра. В этом пункте линии романа и пьесы сходились. В этом же пункте начиналось новое авторское сознание, умеющее связывать Аннушку, пролившую постное масло, с Понтием Пилатом, отправившим на казнь древнего пророка.
В этой высшей точке вещего сна Булгаков с редкой для инсценировщика смелостью предлагал театру прием, распахивающий дом Турбиных настежь перед стихией, знающей только один закон — закон насилия. Кошмар показывает спящему Турбину петлюровщину, «бунт, бессмысленный и беспощадный», где смакуют человеческое унижение, растаптывают и распластывают человека, вынимают из него внутренности и оплевывают душу.
«Кошмар. Ах, все-таки миф? Ну, я вам сейчас покажу, какой это миф. (Свистит пронзительно.)