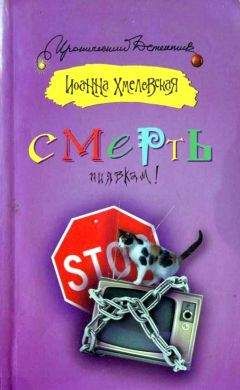Я не сказал ей ничего, к чему ей знать, что Питер убил человека? Преступника в свое время не нашли, и он принял сейчас конец по грехам своим. Аминь.
Я обозревал мир, несущийся к Истоку, и думал, что финал человечества мог быть более разумным. Все катилось к Хаосу, но с каким жутким стоном!
Я смотрел на Землю и в Москве, на Тверском бульваре увидел женщину в синем платье. Женщина стояла посреди аллеи, смотрела вверх и думала — обо мне. Не о Боге, не о вечности, а именно обо мне.
Лина.
Она не могла меня видеть, но все же мне казалось, что наши взгляды встретились, хотя у меня не могло быть и взгляда. Лина вздрогнула, будто ток высокого напряжения прошел быстрой конвульсией по ее телу.
Как мог я уйти, оставив ее одну хотя бы на миг? Я — человек любил ее
— женщину. Я — тот, кем стал сейчас, смогу ли любить?
Я заглянул в будущее и увидел немногое, расчет вариантов при растущей неразберихе был сложен, но и в День девятый, и в последний миг, когда он наступит, я видел себя с этой женщиной, в душе которой не осталось ничего, кроме тоски по ушедшему.
— Лина, — позвал я.
— Господи, — сказала она, вовсе не обращаясь ко мне этим именем, это была лишь фигура речи, привычная и нелепая. — Господи, что ты наделал, Стас?
Она протянула руки в пустоту, и мне увиделось прежнее — ее теплые ладони касаются моего рта, и вместо того, чтобы сказать что-то, я начинаю целовать их — ямочки между пальцами, — и мы оба знаем, что произойдет сейчас, и радуемся, и ждем, и отталкиваем друг друга, чтобы через мгновение придти друг к другу опять, и — все, этого уже не будет никогда.
Жаль?
Но ведь мы не стали калеками. Наоборот, сейчас мы можем почти все. Лина коснулась рукой моей щеки — такое у меня возникло ощущение. Она поняла.
— Ты готова? — спросил я, и Лина кивнула. Скорее, — молила она, — скорее.
— Иди! — сказал я.
Лина прижала ладони к вискам и исчезла, хотя еще не настало время по грехам ее. Но пришло иное время: быть нам вместе.
Что значит — быть вместе существам невидимым, неощутимым, неуловимым никакими приборами, физически существующими везде, и значит — друг в друге тоже? Как описать нежность, ласкающую нежность? Можно ли описать, как память касается памяти, самых интимных ее граней, и две памяти сливаются, будто две плоские картины соединяются и возникает одна — трехмерная, глубокая до синевы падающего рассветного неба?
Мы играли друг с другом, глядели друг в друга, я видел, знал и понимал все, что происходит на Земле, но оставил этот Мир на время, предоставил его самому себе.
Люди уже добивали себя — и добили, пока мы с Линой были вдвоем.
К вечеру Дня восьмого в живых оставались праведники и дети — не все, немногие. Города были пусты, и над ними стлался смрадный дым. И я не должен был жалеть, потому что результатом жалости станет лишь новая жестокость — если знаешь неизбежность дела, нужно его делать.
Лина, ты понимаешь меня теперь?
Пожалеть детей? Но им будет еще труднее. Взрослые уйдут, дети-Маугли конца мира вырастут животными, и не более того. Оставить кого-то из взрослых? Можно, Лина, но когда дети вырастут, твоя нынешняя жалость к невинным младенцам станет жалостью к молодым людям, способным уже и убить. Да — строить, сеять, думать, но и убить тоже. Ты и тогда будешь жалеть, зная, что еще сто или двести лет (для нас с тобой, Лина, это миг), и кто-то начнет собирать армию, чтобы захватить урановые рудники, а кто-то убьет соседа, переспавшего с его женой? Еще кто-то останется честным и праведным, но таких будет мало, и их начнут попросту гнать или даже… Посмотри, Лина, ты еще не можешь видеть на много лет вперед, а я умею, посмотри, вот один эпизод, только один, и ты скажешь — надо ли жалеть сейчас?
Вечер пятницы выдался холодным — с севера сорвался ветер, принесший не только пыль, оседавшую серым налетом на столы и книги, но еще и холод наступившей зимы. Отец Леонсий, зябко кутаясь в шерстяное пальто, оставшееся от его предшественника, обошел библиотеку, ласково прикасаясь пальцами к корешкам. Ему казалось, что книги отвечают на его прикосновения слабыми искорками, проскакивающими между отсыревшими переплетами и подушечками пальцев. Он подумал, что надо бы спросить у Кондрата — может ли быть такое. Кондрат — физик, но есть у него и желание приобщиться к Мудрости, хотя, как подозревал отец Леонсий, желание это было вызвано скорее добротой души и любовью к нему, пастырю, нежели стремлением действительно погрузиться в бесконечную сложность Божьей Вселенной. Они, нынешние, живут лишь минутой. Жаль.
Отец Леонсий снял с полки толстый том сочинений Латимера и подошел к окну — в библиотеке было уже темно, а свет он не зажигал из экономии. Сквозь щели дуло, но только у окна можно было разобрать строчки. Книга повествовала о явлении Мессии, о том, как сын Божий, пораженный падением нравов, возвестил начало Страшного суда. Это была одна из немногих канонических интерпретаций, отец Леонсий любил ее за лаконичность и ясность изложения.
Он поднял взгляд, и то, что увидел в окне, заставило его отложить книгу. Внизу собралась толпа: десятка три молодых людей в серых широких накидках. Стояли молча, ждали, к ним из переулка подходили новые, такие же серые, и все было ясно с одного взгляда. Звонить в полицию? Отец Леонсий представил себе высокий, будто женский, голос капрала Маркуса: «Святой отец, поймите, у меня на дежурстве всего двое, а этих — сколько, вы говорите? Вот видите! Их не остановить! А силу применять в приходе Господа
— грех-то какой!»
Позвонить отцу-настоятелю? «Убеждение, отец Леонсий, наше единственное оружие. Мир спасся в день Страшного суда, потому что Господь пощадил праведников. Только праведников! Мы не можем…» И так далее. Пожалуй, Кондрат — единственный, кому плевать на Божьи запреты. Если для спасения библиотеки нужно драться, он будет драться. И его убьют. И смерть эта останется на совести отца Леонсия. Почему именно он должен выбирать: поступиться волей Господа — никогда не наносить вреда ближнему! — или остаться верным Шестому постулату веры и пожертвовать тем, что дороже всего — книгами?
Когда возникает проблема проблем — выбор, — сохранить чистую совесть невозможно. Что бы ни выбрал.
Господи, что за напасть такая? Балахонщики появились в городе год назад. Сначала их было двое — дети городского головы, нацепив балахоны, бегали за бездомными кошками. Забава понравилась, и через месяц возникла организация с лозунгом «Бить и крушить — удовольствие жизни». И еще: «Жизнь — это удовольствие, дарованное Всевышним». Так извратить послание Божье! Отец Леонсий только раз вступил с серыми в теологический спор — когда на площади Второго храма разбивали статую Аполлона, одну из немногих, сохранившихся после Судного дня. И проиграл он тогда, получив удар в челюсть.