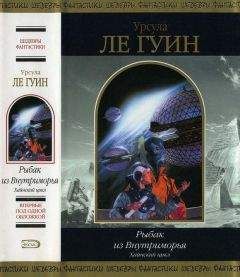На следующий год Исидри больше не цепенела в моем присутствии, но ближе оттого не стала. Она увлеклась религией, ежедневно посещала храм, штудировала тексты Дискуссий под руководством старейшин. Она была любезна, дружелюбна, но вечно чем-нибудь занята. Я не припомню, чтобы мне хоть раз довелось прикоснуться к ней в ту зиму — не считая разве что прощального поцелуя на перроне. Мой народ не целуется в губы, мы соприкасаемся щеками на миг — или дольше. Тот поцелуй Исидри оказался легче прикосновения палого листка — мимолетный и едва ощутимый.
В мою третью и последнюю зиму дома я признался наконец, что уезжаю на Хайн, а оттуда собираюсь отправиться дальше — и навсегда.
Как бессердечны мы порой с собственными родными! Ведь все, что требовалось тогда сказать, — всего лишь про отъезд на Хайн. После полувздоха-полувскрика: «Так я и знала!» — Исако спросила в обычной своей манере, мягким, едва ли не извинительным тоном: «Но ведь после Хайна ты сможешь вернуться домой, хотя бы ненадолго?» Мне следовало ответить матери «да». Ведь это было все, чего она просила. Лучик надежды. Да, разумеется, после Хайна я мог бы вернуться на время. Но с бесшабашным максимализмом и самовлюбленностью, присущими жестоковыйной юности, я отказался дать матери то, чего она так хотела. Я стремился оборвать все нити разом, вырвать из ее души надежду увидеть сына после десятилетней разлуки, я хотел сразу расставить все точки над «i». «Если примут, я ведь стану мобилем», — сообщил я матери. Я старательно подзуживал себя, стараясь говорить без обиняков. Я даже гордился, если не наслаждался, собственной прямотой, своей правдивостью! Но действительность, как выяснилось лишь спустя много лет, оказалась совершенно иной. Правде вообще редко случается быть простой и ясной, но лишь немногим истинам по плечу спор с моей судьбой в сложности и витиеватости.
Мать приняла мою жестокость без слез, без сетований. Она ведь и сама когда-то поступила так же, покинув Терру. И все же обронила позднее в тот вечер: «Мы ведь сможем изредка беседовать по ансиблю, пока ты будешь на Хайне». Она как бы ободряла этим меня, не себя. Полагаю, ей припомнилось, как сама она, сказав родным последнее «прощай», ступила на борт СКОКС-корабля, чтобы сойти на Хайне спустя всего лишь несколько релятивистских часов, — полвека после смерти на Терре ее матери. Она тоже могла бы поговорить по ансиблю, но с кем? Я не изведал подобной муки, а вот ей довелось. И она находила слабое утешение в том, что мне это пока что не грозит.
Все для меня тогда стало временным, каждую фразу хотелось предварить словами «пока что…» О этот горький мед последних деньков! Как же я любовался собой тогда, я как бы снова балансировал на осклизлом валуне посреди ревущего потока с острогой в железной руке — всем героям герой! До чего же бездумно комкал я в руке листок тягучего уданского периода своей краткой жизни, стремясь отшвырнуть его прочь и открыть новый, манящий девственной белизной!
Был миг, когда мне приоткрылся истинный смысл того, что собирался я тогда совершить, — но всего один и столь краткий, что я отверг прозрение.
Случилось это в теплый дождливый полдень в самом конце каникул. Сидя в мастерской при эллинге, я с увлечением мастерил новую банку для маленькой красной плоскодонки, на которой мы обычно ходили в дальнюю рыбалку. Постоянные глухие раскаты с раздувшейся реки служили мне прекрасным фоном для мыслей о разном — я воображал себя на какой-нибудь далекой планете в сотне световых лет вспоминающим этот день и час, запах реки и стружки, несмолкаемый говор воды, как бы загодя пытаясь исцелиться от ностальгии, которую предстояло пережить только в далеком будущем. Вдруг, после робкого стука в дверь, в мастерскую заглянула Исидри — тонкое смуглое личико, длинная коса волос чуть светлее моих, искательный взгляд ясных светлых глаз.
— Хидео, — начала она, — ты можешь уделить мне минутку-другую? Нам нужно поговорить.
— Заходи, заходи! — ответил я с напускной бодростью и радушием, хотя вряд ли сознавал тогда отчетливо, что мне просто недостало бы духу самому завести этот разговор с ней, что я как бы опасался чего-то — чего, спрашивается?
Присев на краешек верстака, Исидри какое-то время молча следила за моими трудами. Когда пауза затянулась и я завел треп о погоде, она перебила:
— Знаешь ли ты, почему я сторонилась тебя?
— Сторонилась? Меня? — деланно изумился я. На это Исидри вздохнула. Видимо, она надеялась на утвердительный ответ, могущий облегчить все остальное. Но я не мог помочь ей.
Ведь лгал я лишь в том, что якобы не замечал такой ее отчужденности. Я действительно никогда, никогда, пока она сама мне не призналась, не мог сообразить, в чем причина.
— Еще позапрошлой зимой я поняла, что люблю тебя, — сказала Исидри. — Я не собиралась рассказывать тебе о своих чувствах, потому что… да это и так понятно. Если бы ты чувствовал ко мне хоть что-то, то сам бы давно все заметил. Но моя любовь не оказалась взаимной. Стало быть, не судьба. Но когда ты сказал, что уезжаешь, покидаешь нас навсегда… Сперва мне казалось, что тем более не следует ничего говорить. Но после я поняла — так будет нечестно. Во всяком случае, с моей стороны. Любовь имеет право быть высказанной. И у тебя есть право знать, что кто-то любит тебя. Что кто-то любил тебя, мог бы любить тебя. Мы все нуждаемся в подобном знании. Возможно, это самое важное, в чем мы нуждаемся. Поэтому я и решила сказать тебе. А еще я опасалась, что ты можешь неправильно истолковать мое поведение, подумать, что я не люблю тебя. Порой это могло выглядеть именно так. Но это было не так.
Спрыгнув с верстака, девушка двинулась к двери.
— Сидри! — воскликнул я вслед, имя вырвалось из моей груди странным, хриплым выдохом, одно лишь имя, ни слова более — не было слов. Не было больше ни чувств, ни сострадания, ни давешней ностальгии, ни моих сладостных мучений. Я стоял там как громом пораженный. Наши глаза встретились. Мы замерли, заглянув друг другу в самую душу. Затем Исидри отвела взгляд, губы ее искривила болезненная гримаска, и она тихонько скользнула за дверь.
Я не пошел за нею. Мне нечего было сказать ей. Абсолютно нечего. Я чувствовал, что поиски нужных слов займут недели, месяцы, годы. Считанные минуты назад я был безмерно богат и счастлив, упоен собой и своим предназначением — а теперь стоял опустошенный и нищий, уныло глядя в мир, который собирался покинуть.
Этот миг моего прозрения длился на самом деле добрый час — на всю жизнь запечатлевшийся в памяти как «час в эллинге». Ссутулившись, я сидел на высоком верстаке, где недавно сидела Исидри. Лил дождь, бесилась река, смеркалось. Очнувшись в конце концов, я включил свет, как бы пытаясь затмить им ужасающую правду действительности, отстоять перед нею мою цель, мои планы на будущее. Я начал возводить в душе своего рода эмоциональную стену, чтобы спрятаться за нею от того, что так ярко высветила Исидри во мне самом, чтобы уйти от взгляда ее безжалостных и ласковых глаз.