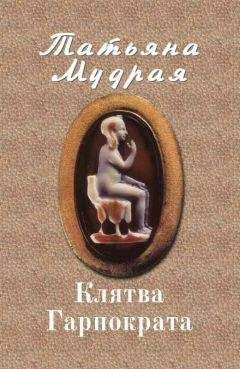— Красота, — ответила Фалассо его мыслям. Такое бывает с двойняшками, особенно слепленными из одного материала. — Зеленое все и белое, и как цветочные букеты выступают из камня. Леса и трава? Известняк? Туф?
— Ракушечник тоже. Под водой и еще красивее — сады кораллов, пастбища рыбок.
Мозговые кораллы, такой подушкой, похожие на кружевные грибы, ветви или занавеси, а то и на оленьи рога. Неземные цветы: белые, фиолетовые, синие, голубые, зеленые, желтые, оранжевые, розовые, красные и даже черные.
— Полная радуга. Белое раскрывается всеми цветами и уходит в темноту. И наоборот — снова и снова. Инь и Ян. Сокрыто и явлено. Помнишь стихи?
Черный уголь в тисках обращается в белый алмаз
И ведет по стеклу, словно щепка по мягкой бумаге;
Поглощённое с алчностью наитемнейшим из вас —
Бриллиант излучает, сияя в безумной отваге.
Мы плывём, как во сне, по бескрайней туманной реке,
В темном небе развернуты вширь семицветные стяги,
И смеется верхом на дуге из мерцающей влаги
Лепрекончик зеленый с блестящей монеткой в руке.
— Помню. Это Барбе сочинил для нашего отца Кьярта. Уже когда тот постригся в отшельники-колумбаны. Монах — водитель китов. Монах-садовник. Вот бы его сейчас сюда — полюбоваться!
— Тут ведь еще и живности всякой кишмя-кишело, тоже пёстрой. Большие тридакны с двухметровыми створками, всякие губки, актинии, раки, крабы, морские звезды, морские ежи и множество водорослей. А рыбы, братец! Одни названия чего стоили: губан, скалозуб, кардинал, как Барбе, рыба-бабочка, рыба-клоун, рыба-попугай, морская собачка, еж-рыба и даже рыба-муха. Как по-твоему, это еще есть?
— Отчего же нет. Цивилизация покрывает собой лишь самую поверхность суши, а океан, как был колыбелью жизни, так ею и остался. Ему почти все равно, что происходит на его поверхности и берегах. Никто не знал и не знает, что именно скрыто на дне его разломов, рифтов и впадин, где рождаются извержения и цунами. И ведь он сам себя почистил от рутенских отходов, ты же знаешь.
— Смотри, Бьярни, какой островок зеленый, будто уваровит в оправе, — сказала Фалассо. — Чует моя непревзойденная интуиция, что стоило бы начать с него.
— Ладно, мне-то одинаково, — ответил он. — Как братец твой — не возражает?
— Зелень означает пресную воду, — ответил Фаласси. — Наши бортовые запасы ведь не вечные.
Вертолет приводнился и заколыхался на морской зыби.
— Ребята, дальше мелко, летунчик боится пузо о здешние каменные колючки пропороть, — крикнул Бьярни. — Сейчас мотор угомонится — и давайте вылезать. Надеюсь, местные акулы меня нюхом почуют. Живой стали никто ведь не любит. Рефлекс у них.
Все трое спустились в теплую воду и пошли вброд.
На берегу был крупный светлый песок.
— Это такая же пыль цивилизаций, как и в Кёльне? — спросила брата Фалассо.
— Может быть. От гибели кораллов барьер ушел бы вниз и сократился. А тут совсем иное, сама же видела.
На берегу за ними следил человек — так спокойно, будто уже давно за ними следил и всё о них знал. Высокий, темнокожий, что еще более подчеркивало его худобу, в бородке, которая имела форму вывернутой наружу запятой, в пышнейшей курчавой шевелюре с проседью и в набедренной повязке из широких листьев.
— Я так думал, мои акулы вас не тронули — значит, вы хороши для этого места, — сказал он на языке, который почему-то был им понятен.
— Вы кто? — с непревзойденным остроумием спросил Бьярни.
— Я виринун — мудрец, знахарь и колдун, который отделил небо от земли, подставив под него палку. Я Байаме, тот, кто начинает и завершает. Я тот, кто ждет, когда никого и ничего не остается.
— Неужели вокруг больше нет людей? — спросил Фаласси.
— Отчего же? Для них просто наступило Время Сновидений. Смотрите: вот мой народ. Ручей — змея с прозрачным хрустальным телом, сквозь которое проглядывают камни. Сами камни — лягушки Бун-юн Бун-юн, которые очищают его воды во время таяния снегов в горах, когда по руслу катится горячий красный шар грязной воды. Видите, на спине одной даже сохранились полоски? И горный хрусталь, что лежит поверх горных вершин, — тоже мой и тоже подвижен. Когда я поднялся в горы с моей женой, мы стали им наполовину, лишь то, что выше пояса, выступало из него наружу. И деревья мои — это дочери речного змея. И цветы — это застывшие птицы. И все твари, которые тут во множестве бродят, — о нраве и уме каждого сложена история. Даже солнце, если рассудить, — не что иное, как огромный яичный желток. Даже о ветрах есть сказка. Хотите послушать?
— Конечно, — ответил Фаласси. — Для того мы и здесь. К тому же такое поведение будет учтивым.
— Итак, Ван-ворон построил свой дом высоко на белом эвкалипте Яраан.
В это время Гигер-Гигер, холодный западный ветер, дул с такой силой, что с корнем вырывал деревья и переносил хижины воронов с места на место. Доставалось от него и всем прочим. «Надо, — подумал Ван, — постараться схватить Гигера-Гигера и запереть его вот в этом большом полом бревне».
Через несколько дней, когда Гигер-Гигер утомился, повалив деревья на протяжении нескольких миль и поранив людей своими холодными порывами, Ван внезапно напал на него и загнал внутрь полого бревна, заделав отверстия на его концах и в середине.
Напрасно Гигер-Гигер гремел и выл внутри.
— Ты несешь всюду только разрушения, поэтому останешься здесь, — сказал Ван.
Гигер-Гигер обещал быть не таким порывистым, если Ван временами станет давать ему немного воли. Долгое время Ван не верил ему и держал крепко запертым, но затем стал иногда выпускать его, когда тот обещал не создавать ураганов.
Но Гигер-Гигер то держал обещание, то снова нарушал его — такой уж был его дикий нрав. К тому же из-за того, что он буйствовал внутри, бревно начало разрушаться.
И когда-нибудь Гигер-Гигер сметёт все на своем пути, мчась навстречу своему любимому Ярраге — весеннему ветру, дующему с Камбурана — востока. Яррага привык встречать появляющийся с Диньерра — запада Гигер-Гигер и согревать его своим ароматным теплом.
Ибо дважды в году все ветры встречаются и устраивают большое корробори и празднества. Дуран-Дуран приходит со своим знойным дыханием с Гарбар-ку — севера, чтобы встретить свой любимый Ган-я-му, который приходит с Були-миди-мунди — юго-востока, чтобы освежить мягким, прохладным дыханием Ган-я-му, пока его жар не уменьшится и он не перестанет опалять попадающихся ему на пути. Затем с Нуру-буан — юга дует ветер Нуру-нуру-бин, чтобы встретиться с Мунди-ванда — северо-западным ветром. Они завиваются друг возле друга, крутятся и поют громкие песни.