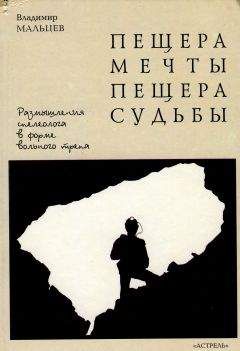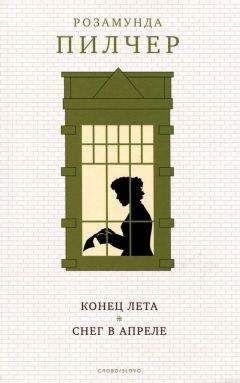— Эта мысль стоит того, чтобы ее обдумать, — не сразу отозвался Великий Магистр и умолк снова, когда вблизи лагеря послышался шум и треск, ясно свидетельствующий о возвращении охоты и, судя по радостным возгласам, с удачей.
На поляну вывалились придворные в окружении двух егерей — встрепанные и осыпанные сухой листвой; на плечах двоих из сопровождающих слуг возлежал олень с окровавленной шеей. Фон Люфтенхаймера-младшего среди них не было.
— А где же Рупрехт? — осведомился Рудольф, когда остатки свиты приблизились и убитый олень шлепнулся на траву.
— Двинулся дальше, Ваше Величество, — с явственной насмешкой отозвался один из столь же юных рыцарей. — Ведь шли на кабана. Следопыты видят след, собаки рвутся, и — он ушел по тропе. Наш герой не уймется, пока не найдет зверюгу.
— Или пока зверюга не найдет его, — хмыкнул его приятель, и тот шлепнул его по плечу:
— Ставлю на кабана.
— Пожалуй, я все же дам парню шанс. Ставлю на фон Люфтенхаймера.
— Принимаю.
— Отлично. Тебе сегодня не везет.
— Это тебе не везет, — возмутился тот, — и оленя подстрелил я.
— Стрела была моя!
— Свою стрелу можешь поискать в кустах на той полянке.
— Господа рыцари, — с холодной любезностью окликнул их Рудольф, и те, запнувшись, коротко и мимоходом склонились в его сторону:
— Простите, Ваше Величество.
Спор продолжился в отдалении, однако шум, уже прочно водворившийся вокруг, все равно сделал дальнейшее мало-мальски конструктивное обсуждение столь важных вопросов невозможным.
— Дождемся, когда все уляжется, — предложил Рудольф со вздохом. — Да и у вас будет время все обдумать, а под добрый завтрак и беседа будет приятней.
— Я вижу, вольность поощряется при богемском дворе, — заметил Великий Магистр, одарив дискутирующее рыцарство насмешливым взглядом, и Рудольф отмахнулся:
— Эти двое — в некотором роде приятели моего сына, отсюда и воцарившиеся в их умах иллюзии вседозволенности. Бездельники, повесы и кутилы, но зато им я доверяю. Прочие — либо конгрегатские агенты, которые не упускают случая влезть ему в мозги со своими наставлениями, либо шпионы, шпионящие друг для друга, либо стяжатели, готовые продать все и всех. Эти, по крайней мере, не скрывают того факта, что от своей службы при дворе хотят просто и пошло денег и легкой жизни, и теперь, обретя то и другое, не желают от бытия большего. Им хватает на хороший стол и женщин — и они довольны.
— Не опасаетесь дурного влияния на наследника?
— Ему не помешает, — возразил Рудольф убежденно. — Проще, когда придет время, исправить раздолбая, чем святошу. Не примите на свой счет.
— Свой счет я вам предъявлю несколько позже, — подчеркнуто дружественно улыбнулся Великий Магистр. — Вы правы — я использую это сомнительное затишье, дабы все как следует обдумать… Однако ж, я слышал, вы на три месяца отослали своего сына именно что в монастырь за какую-то провинность. Не опасаетесь сотворить из него святошу?
— И это ему не помешает тоже, — натянуто улыбнулся Рудольф.
***
«Сердце Карлштейна», часовня святого Креста в центре Большой башни, в общем, и не задумывалось как место проведения регулярных богослужений — отец, никогда не живший в замке подолгу, перевез сюда коронационные регалии, на чем и посчитал миссию этого места исполненной. Сам Рудольф, избравший-таки родовое гнездо своей постоянной резиденцией, все же не стал ничего менять, и символы императорской власти по-прежнему хранились здесь, напоминая о величии титула и ничтожности судьбы человеческого существа, им обладающего. Разумеется, возводилась часовня с учетом всех тех требований, что предъявлялись ко всем зданиям подобного рода, а именно — в том числе и отличной акустики, в свете чего для тайных бесед и секретных переговоров сие место, казалось бы, подходило слабо. Однако предполагалось, что здесь же Карлу или его потомкам может придти в голову облегчить душу, посему все-таки были отдельные уголки, в которых венценосный грешник мог говорить свободно, не опасаясь того, что рассказы о его провинностях достигнут ушей кого-то, кроме его духовника. Часовня посему использовалась Рудольфом почти по назначению. Почти — ибо речь здесь шла, как правило, о грехах не прошлых, но лишь грядущих, еще зреющих в его голове или голове собеседника в виде замыслов и планов, имеющих, быть может, и благие цели, но порою не слишком праведные способы их достижения. Здесь, под бесчисленными ликами святых, взирающих на мир, было вынесено больше смертных приговоров, нежели в императорских покоях или канцелярии, здесь обсуждались дела, не предаваемые огласке на райхстагах, здесь вершились судьбы многих, здесь многие обретали счастье или навеки прощались с ним. Здесь потрясались основы королевств и самой Империи. Здесь созидалась История.
О том, что молится (от всего сердца, со смущением и искренностью) всякий раз, как входит под эти золоченые своды, Рудольф не признался бы никому и никогда. Мимо образов кисти великого Теодорика он проходил всегда медленно, оглядывая ряды ликов и замечая с внутренней дрожью, что выражение глаз святых и праведников порою меняется, делаясь благостными или порицающими. Наверняка дело было в собственном душевном равновесии, порою нарушаемом и колеблемом, однако никак не выходило отделаться от нехорошего чувства, что в этом недоступном для чужих глаз и ушей убежище за ним все-таки следят. От перенесения обсуждаемых тайн в иное место Рудольфа удерживали и здравый смысл, и иррациональное упрямство. Разум говорил, что Сердце Карлштейна подходит для этих целей лучше всего, только здесь постороннему негде спрятаться и неоткуда подсмотреть, здесь нет потайных дверей и окошек, здесь всё на виду. Упрямство же, при всем том трепете, что зарождался при входе в часовню, при некотором смятении перед взирающими на него ликами, призывало настоять на своем, доказать им, что, в конце концов, он и только он хозяин в этом замке.
Сегодня святые смотрели без укора и даже, кажется, с сочувствием. Встреча сейчас ожидалась важная и, можно сказать, в некотором смысле судьбоносная, однако рассудок по большей части занимала не она, не государственные дела, не интриги и козни, а чувства нехитрые и простые, знакомые даже и любому зверю, от мыши до пустынного льва — тревога за свое потомство. До сих пор верилось с трудом в то, что вот так просто отпустил единственное чадо неведомо куда, почти без охраны и без возможности самому контролировать происходящее. Да, разумеется, слались с гонцами письма — частью написанные личным телохранителем, частью составленные рукою самого наследника, со всеми оговоренными заранее тайными словами, долженствующими подать не понятный иным сигнал о грозящей или свершившейся опасности. Да, разумеется, письма доставлялись каждую неделю. Да, разумеется, охрана была наилучшей. Да, разумеется, и Конгрегация вывернется наизнанку, но наследника оберегать будет, как зеницу ока. Им он нужен так же, как и сам Рудольф. Точнее — они попытаются сберечь его, насколько хватит их сил.