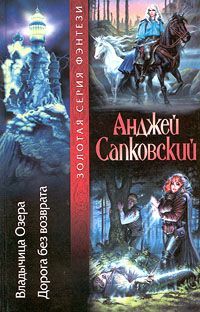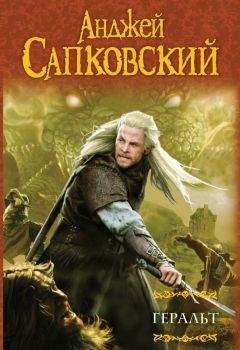– Есть чем похвалиться, – кивнул он. – Мало кто его осматривал. А еще меньше тех, кто мог об этом рассказать.
– Хо-хо, – сверкнул зубами Цикада. – Жуть как грозно это прозвучало, аж мурашки по телу. Мне всегда было интересно, ведьмак, почему люди так вас боятся. Думаю, уже знаю.
– Я тороплюсь, Цикада. Возврати меч, будь добр.
– Дым в глаза, ведьмак, ничего больше, только дым в глаза. Вы пугаете людей, словно пасечник пчел, дымом и вонью, своими каменными физиономиями, своей болтовней, слухами, которые, верно, сами о себе распускаете. А пчелы драпают от дыма, дурные, вместо того чтобы воткнуть жало в ведьмакову задницу, которая тут же распухнет, как и любая другая. О вас говорят, будто вы чувствуете не как люди. Брехня. Если б кого из вас как следует пырнуть, почувствовал бы.
– Ты кончил?
– Угу, – сказал Цикада, возвращая меч. – Знаешь, что меня интересует?
– Знаю. Пчелы.
– Не-а. Я вот думаю, если б ты вошел в улочку с одной стороны с мечом, а я – с другой, то кто бы из нас дошел до ее конца? Вопрос, думается мне, стоит того, чтобы поспорить.
– Чего ты цепляешься, Цикада? Ищешь ссоры? Что тебе надо?
– А ничего. Просто интересно, сколь правды в том, что люди болтают. Мол, вы, ведьмаки, так хороши в бою, потому как нету у вас ни сердца, ни души, ни жалости, ни совести. И этого достаточно? Обо мне, к примеру, говорят то же. И не без оснований. Вот и любопытно узнать, кто из нас двоих зашел бы в улочку и вышел бы из нее живым. А? Стоит поспорить? Как думаешь?
– Я же сказал, тороплюсь. Не стану терять времени на глупые раздумья. И спорить не привык. Ибо спорит либо дурак, либо подлец. Первый – не знает, а спорит, второй знает, но спорит. Но если тебе когда-нибудь взбредет в голову помешать мне пройти по улочке, то добром советую, Цикада, сначала подумай как следует.
– Дым, – усмехнулся Цикада. – Дым в глаза, ведьмак. Ничего больше. До встречи, как знать, может, в какой-нибудь улочке?
– Как знать.
– Здесь мы можем свободно поговорить. Садись, Геральт.
Больше всего в мастерской бросалось в глаза внушительное количество книг – именно они занимали большую часть просторного помещения. Толстые томища заполняли шкафы, прогибали полки стеллажей, громоздились на сундуках и комодах. На взгляд ведьмака, книги стоили целого состояния. Не было, разумеется, недостатка и в других типичных элементах декора – чучела крокодила, висящей под потолком рыбы-ежа, покрытого пылью скелета и солидной коллекции банок со спиртом, содержащих, пожалуй, любую пакость, какую только можно себе представить, – сколопендр, пауков, змей, жаб, а также неисчислимое множество человеческих и нечеловеческих органов, в основном внутренних. Был там даже гомункулус или что-то, что напоминало гомункулуса, но с таким же успехом могло оказаться копченым младенцем.
На Геральта коллекция впечатления не произвела – он полгода жил у Йеннифэр в Венгерберге, а Йеннифэр располагала еще более интересным собранием, содержащим даже невероятных размеров фаллос, взятый, кажется, от горного тролля. Было у нее не совсем удачно выполненное чучело единорога, на спине которого она обожала заниматься любовью. Геральт считал, что если и существует место, еще менее пригодное для любовных игр, так это, пожалуй, только спина единорога живого. В отличие от него, считавшего кровать роскошью и ценившего все мыслимые возможности, предоставляемые этим чудесным предметом мебели, Йеннифэр была на удивление изобретательной. Геральт вспоминал приятные моменты, проведенные с чародейкой на крутой крыше, в забитом пылью дупле, на балконе, причем – чужом, на перилах моста, в раскачивающейся на бешеной реке лодке и во время левитации в тридцати саженях над землей. Но хуже всего был единорог. Наступил все же счастливый день, когда кукла сломалась под ними, развалилась и разлетелась на куски, подбросив массу поводов для смеха.
– Что тебя так забавляет, ведьмак? – спросил Истредд, присаживаясь к длинному столу, уставленному неимоверным количеством истлевших черепов, костей и ржавых железяк.
– Всякий раз, когда я вижу такое, – ведьмак уселся напротив и указал на банки и склянки, – я задумываюсь, действительно ли нельзя заниматься магией без всей этой мерзопакости, при одном взгляде на которую желудок подскакивает к горлу.
– Дело вкуса, – сказал чародей, – и привычки. Что одному противно, другого как-то не трогает. А что противно тебе, Геральт? Интересно, что может быть противно тому, кто, как я слышал, ради денег может по шейку лезть в дерьмо и нечистоты? Пожалуйста, не принимай мой вопрос за оскорбление или провокацию. Мне действительно интересно, чем можно вызвать у ведьмака чувство отвращения.
– А в этой баночке ты, случайно, хранишь не менструальную ли кровь невинной девицы, Истредд? Понимаешь, мне становится противно, когда я представляю себе, как ты, серьезный чародей, пытаешься с бутылочкой в руке капля по капле добыть эту ценную жидкость, преклонив колени у самого, так сказать, источника.
– В самое яблочко, – усмехнулся Истредд. – Я, разумеется, говорю о качестве шутки, потому что относительно содержимого баночки ты промахнулся.
– Но тебе доводилось использовать такую кровь, правда? К некоторым заклинаниям, я слышал, и не приступишь, если под рукой нет крови девушки, лучше всего убитой во время полнолуния молнией с ясного неба. Чем, интересно, такая кровь лучше крови старой проститутки, которая спьяну свалилась с частокола?
– Ничем, – согласился чародей, мило улыбнувшись. – Но если вылезет наружу, что эту роль практически столь же успешно может выполнять кровь хряка, которую гораздо легче добыть, то любой голодранец примется экспериментировать с чарами. А вот если голытьбе придется набирать в бутылочки и использовать так заинтересовавшую тебя девичью кровь, драконьи слезы, яд белых тарантулов, бульон из отрезанных ручек новорожденных или из выкопанного в полночь трупа, то у многих, уверяю, отпадет охота.
Они замолчали. Истредд, казалось, в глубокой задумчивости постукивал ногтями по лежащему перед ним потрескавшемуся, коричневому, утратившему нижнюю челюсть черепу и при этом указательным пальцем водил по зубчатому краю отверстия, зияющего в височной кости. Геральт ненавязчиво посматривал на него и пытался сообразить, сколько же чародею может быть лет. Он знал, что наиболее способные умели затормозить процесс старения перманентно в любом возрасте. Мужчины ради репутации и престижа предпочитали возраст более преклонный, зрелый, говорящий о знаниях и опыте. Женщины – типа Йеннифэр – меньше заботились о престиже, а больше о привлекательности. Истредд выглядел не старше верных сорока. У него были слегка седеющие, прямые, доходящие до плеч волосы и многочисленные, придающие серьезность морщинки на лбу, около рта и в уголках глаз. Геральт не знал, естественна или же вызвана чарами глубина и мудрость серых мягких глаз. После краткого раздумья он пришел к выводу, что это не имеет значения.