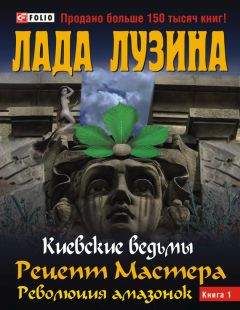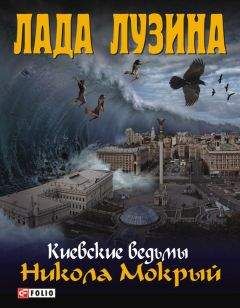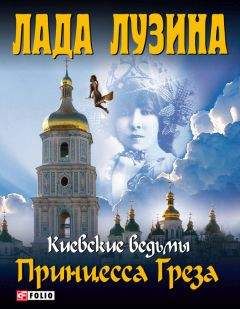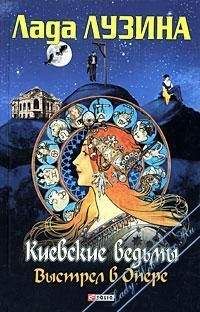— Ату, ату его, — доносилось оттуда.
Около двадцати крупных и крепких баб с кочергами, коромыслами, вилами и вожжами в руках окружили какого-то расхристанного, уже потерявшего шапку мужика со злым испитым лицом.
— Ты бабу свою батогом учил? — грозно спросила молодка в намитке с большим бантом.
— Бабы, вы шо, — недобро сказал мужик, глядя на них исподлобья. — Лучше не надо…
— За косы по хате таскал? — выступила вторая баба в сорочке с рукавами-пухликами, щедро расшитыми розами с лилиями.
— Моя баба, хочу учу, хочу — нет.
— Баба твоя, да день — наш, — громыхнула лилейно-розовая. — И мы с тебя за год возьмем. Ану, давайте…
Мужик вырвался из окружения, побежал, сшибая по дороге молодку в намитке ударом дебелого кулака.
— Стой, падла! — на этот раз монашеское платье не могло помешать Даше Чуб, приподняв рясу, она припустила за беглецом первая. Догнала, вскочила ему на загривок и, испустив возглас истиной ведьмы, укусила обидчика за ухо.
— Вот сестрица святая что вытворяет! — поощрительно крикнула баба в розах. — Хватайте его!
Женщины набросились на мужика, повалили на землю, принялись колошматить.
— Вот те за вожжи, за косы, за слезы ее… — приговаривала Намитка.
— Знай, коли дальше так будет, на следующий год от нас живым не уйдешь! — грозно пообещали Розы и Лилии.
* * *
Два часа спустя, шатаясь, как сосна на ветру, Чуб шла по Кожемякам…
После того как избитый мужик пополз домой, в подольском шинке с феерической вывеской «Трактиръ Лондонъ», рядом с которым прямо под гостеприимной вывеской «Сегодня на деньги, завтра на поверь» они обнаружили пьяную молодку на санках, прыткой сестрице и ее младшей спутнице бабы поднесли добрую чарку «оковитої». За ней еще одну и… Праздник получился душевным!
Теперь Даша брела по улице, подпевая то одной, то другой песне, льнущей к ним с разных сторон, и перемежая пение с возмущением и восхищением:
— Мать моя, какие землепотрясные у нас были традиции! Мы праздновали 8 марта за кучу столетий до того, как все остальные. Мы наряжали елку… точнее мамку, за кучу столетий до того, как они елку…
— Одновременно почти, — сказала Акнир.
— Неважно! На хрена нам их елка, у нас есть своя мамка… у нас есть свои Брыксы… Наши украинские традиции — лучшие в мире… были. Куда все подевалось? И это у нас называется свобода?! Это называется равноправие женщин? Вот это свобода! А у нас че?.. Ни-че! Бить мужиков не дают, сватать их не дают. Почему езда на мужчинах не узаконена конституцией… Ну хотя бы раз в год?! Какого хрена я голосовала за эту… ну как ее… депутатшу со стрижкой, если она до сих пор не предложила закон, позволяющий нам делать мужчинам предложенье и слышать в ответ только «да» — без вариантов! А кто скажет «нет» — в тюрьму на шесть суток. Нет, лучше на год. Нет, пожизненно… Вот какой был бы классный закон! Так нет же…
— Подвезешь нас, служивый? — крикнула Акнир.
Проезжающий мимо седовласый солдат на расхлябанной груженной бочками телеге спокойно кивнул:
— Садитесь, сестрицы.
В молчании они проехали Контрактовую площадь, журчащий фонтан Самсон. На Александровском спуске Даша печально и протяжно запела:
Ой, Василь-Василечок,
Утри сльози дiвочi,
До cвimy, до cвimy Маланочка хоче…
Но на Царской площади, с которой уже просматривался юный подрастающий Крещатик, песня закончилась, и, словно стряхнув с себя сон, Чуб соскочила с телеги.
— И я еще рассказывала Полиньке Котик, что через сто лет жить будет лучше, — горестно заголосила она. — Вранье! Что они мне там вообще разрешили? В шортах ходить по Крещатику? Спасибо большое… А ведьмы летали вообще без одежды, и амазонки вообще… Почему я должна одеваться? Что за диктат? Что за ущемление личности. Нужно устраивать революцию. Хочу ходить голая!
Нижняя челюсть Акнир опустилась на пять сантиметров. Выкрикнув свой лозунг, Даша немедля привела его в исполнение — задрала рясу на голову, стащила, бросила на землю, оставшись в одних ботинках, чулках до колен и прибывших еще из ХХI века «нормальных трусах» — застиранных стрингах в клубничку.
— Тпр-у-у, — вскрикнул солдат.
С телеги посыпались бочки. Экипажи остановились. Остановились прохожие. К ним со свистом бежал городовой.
— Хочу и буду! — крикнула Чуб, выпячивая грудь. — «Грудью проложим себе…» — запела она, хватаясь за стринги.
Но прежде чем Даша успела потянуть трусы вниз, Акнир щелкнула пальцами.
Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе, —
грянул хор.
Городовой исчез. Исчезли экипажи… Как по волшебству выросли многоэтажные здания.
По Крещатику, гордо неся над головой транспаранты «Долой стыд!», шли совершенно голые люди — мужчины и женщины.
— Ура! Ура! — громко поприветствовали они Дашу Чуб, уже успевшую выпрыгнуть из трусов. — Вот настоящий революционный поступок.
* * *
Ступив за порог, Катерина Михайловна невольно отпрянула…
Шесть лет — большой срок. Достаточно большой, чтобы будущее, ставшее прошлым, стало казаться нереальным.
Произнося заклятие времени, Катерина знала, что увидит за дверью — навалившаяся на нее белая громада администрации президента, выдержанная в стиле тотальной безвкусицы, придавила ее своим массивом.
Дображанская быстро повернулась, желая отдохнуть взглядом на желтеньком доме-модерн, прильнувшем к президентской обители слева. Справа от обиталища власти притаился дом Плачущей вдовы.
Модерн как обычно не скрывал ничего — говорил прямым текстом: мужская власть в этой стране была оккупирована и, несомненно, обречена…
Катерина Михайловна издала неподобающе-хмыкающий звук, желая преодолеть смущение перед забытым веком. Тело чувствовало себя неудобно в непривычно удобных кроссовках и джинсах. Привыкшие к дореволюционным изыскам глаза — раздражала аляповатость нового мира. К тому же шел дождь, а она не додумалась взять зонтик… Зато ее посетила иная дума:
«Плачущая вдова сейчас плачет…»
Смахивая с лица липучие капли, Катерина дошла до угла, неприязненно сморщилась на сталинские дома, порядком подпортившие лик Лютеранской, перешла дорогу и подняла голову.
Как и большинство коренных киевлян, Катя не видела львиную долю достопримечательностей Города Киева, и потому не было ничего удивительного в том, что представшее пред ней она узрела впервые.