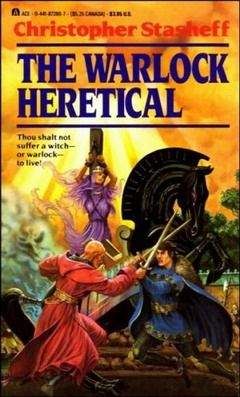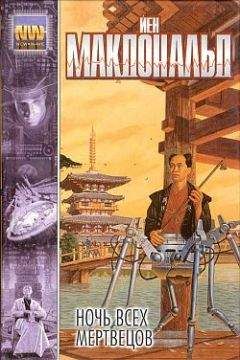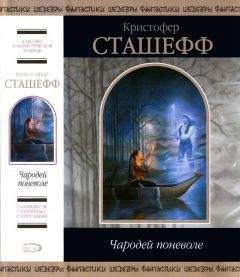Выкрикнув предупреждение, добрый пастор выплеснул содержимое таза в кусты и собрался было вернуться на кухню, когда уголком глаза заметил приближающуюся фигуру и присмотрелся повнимательнее. Затем удивленно вытаращил глаза и окликнул:
— Брат Мэттью!
Монах, улыбаясь, помахал ему в ответ и затрусил быстрее.
Отец Беллора с радостным возгласом хлопнул его по плечу.
— Ах ты, старый ворчун, что ты здесь делаешь? Как же я рад тебя видеть!
— И я тебя, отец Беллора, — брат Мэттью был на год старше, но в монастыре они учились вместе.
— Ну, входи, входи, — воскликнул отец Беллора и повел старого однокашника на кухню.
Полчаса и жирный мясной пирог спустя брат Мэттью отодвинулся от стола, поигрывая зубочисткой. Отец Беллора довольно усмехнулся, потягиваясь и похлопывая себя по животику.
— Ну, славный брат! Что за дела привели тебя в мой приход?
— Весть, которую наш добрый аббат велит тебе сообщить всем твоим прихожанам, — лицо брата Мэттью омрачилось. — Он провозгласил отделение Греймарийской Церкви от Рима.
Отец Беллора погрустнел.
— Да, слухи говорили об этом… но я все же надеялся, что это не так.
— Уже? — удивленно поднял голову брат Мэттью. — Слово оказалось быстрей грамоты?
— Еще бы, брат. Здесь проходил лудильщик прошлым днем. Залатал кому-то котел, переночевал и пошел дальше. Должно быть, сейчас эту новость узнает еще один из священников.
— Да, брат, — сочувственно кивнул Мэттью. — Неутешительная весть для мятущихся душ…
Он вытянул из рукава свиток.
— Вот текст. Перепиши его и читай перед службой в течение недели. Потом отнесешь свиток отцу Гейбу, в приход Флэморн, что за холмом, как я принес тебе.
Отец Беллора принял рукопись с улыбкой человека, которому предложили клубок тарантулов.
— Поведай суть.
— Ну что, Римская Церковь в своих греховных заблу…
Отец Беллора обалдел, как пуританин на балу, глаза полезли на лоб.
— Да как он осмелился…
— Он аббат, — пожал плечами брат Мэттью. — Нелегко привыкнуть, верно? Мы ведь считали Рим непогрешимым в вопросах веры… Но наш добрый лорд аббат утверждает, что тот, кого мы зовем Пресвятым Отцом, не знает ни положения местных дел, ни их сложности, и даже более — что он скован попустительским отношением своих предшественников к распущенности и к развращенности сановников курии.
— Но как он смеет порицать наследника Петрова? — прошептал отец Беллора.
— Потому, говорит лорд аббат, что Папа в конечном итоге не более, чем епископ Рима и, стало быть, ничуть не важнее любого другого епископа. А лорд аббат, чтобы напомнить всем нам, что он глава нашей Церкви, чтобы не осталось в том никаких сомнений, принял титул архиепископа Греймари.
Отец Беллора потрясенно застыл.
— Ну, а архиепископ Греймари, — продолжал брат Мэттью, — вполне может порицать епископа Римского. Он обличает ошибки Папы, особо упирая на то заблуждение, что Папа не требует от князей земных признания верховной мудрости Церкви во всех вопросах нравственности.
— Но любой государственный вопрос — вопрос нравственности! — возразил отец Беллора. — Каждое повеление властителя — либо нравственное, либо нет!
— Вот-вот, к этому он и клонит — и в этом, говорит лорд аббат, кроется причина всех наших бед.
— Но слова Христовы: «…отдавайте кесарево кесарю»…[7]
Брат Мэттью кивнул.
— Верно, но по словам аббата, даже кесарь должен воздать Богу божие — и тем самым склониться перед Церковью.
— Уж не хочет ли он сказать… — не смог договорить до конца сильно побледневший отец Беллора.
Брат Мэттью сочувственно покачал головой.
— Именно так, отец, именно так. Наш лорд аббат выводит отсюда, что Церковь превыше короля, что Церковь куда яснее знает волю Господню, чем король. И потому король должен склониться перед властью архиепископа.
— Да неужели же король стерпит такое? — прошептал отец Беллора.
Ночь разорвал отчаянный, дикий вопль ужаса. Деревня вздрогнула от грохота, и эти несколько секунд паники показались бедным людям часами. Хлопая дверьми, заспанные крестьяне посыпались на улицу, кто с палкой, кто с серпом. Они сгрудились у домика, откуда доносились крики, и забарабанили в двери.
Седая старушка скрючилась на коленях у лесенки на полати. Вернее сказать, у остатков лесенки, потому что все ступеньки были переломаны. Стол и лавки перевернуты, сундук лежит на боку, кругом разбросана пряжа.
Перепуганные крестьяне вытаращили глаза.
С полки сорвался горшок и понесся к ним.
Те с криками попадали наземь. Один, правда, пригибаясь, пробежал внутрь и заключил старуху в медвежьи объятия.
— Ты цела, Гризельда?
Вопли прекратились, Гризельда очумело уставилась на здоровяка.
Деревянная кружка мелькнула мимо его головы. Тот присел, и Гризельда снова взвизгнула.
— Ничего-ничего, — успокоил ее спаситель. — Сама-то цела?
— Вроде бы, — пролепетала старушка. — Нога вот только…
— Ясно. Ну, держись.
Здоровяк взвалил ее на плечо и повернулся к дверям.
Прямо на него летела табуретка.
Крестьянин с воплем отшатнулся, табуретка пронеслась мимо и, влетев в камин, разлетелась вдребезги. Мужик опрометью, спотыкаясь, бросился наружу.
Перед ним расступились. Затормозив, он осторожно поставил старушку наземь, тяжело переводя дух.
— Храни тебя Бог, Ганс, — та никак не могла отпустить крепкое плечо.
— Не за что, — пропыхтел он. — Что с ногой, Гризельда?
Старушка осторожно ступила на упомянутую ногу.
— Заживет, — кинула она.
— Вот и ладно.
За спиной у них снова раздался вопль, и стоявшие у входа отскочили, торопливо захлопнув дверь. Об дверь что-то разбилось. Старуху передернуло.
— Это дух очага, — сказал кто-то, оглядываясь по сторонам. Кругом собралось полно народу, вышедшего посмотреть, а не пора ли удирать из деревни, сломя голову.
Ганс тоже огляделся и помахал рукой.
— Все спокойно, люди добрые, Гризельда цела. Только до смерти перепугана.
— Вот уж верно — до смерти, — покачала головой Гризельда. — Я уж легла и засыпать стала, слышу — что-то ка-ак грохнется! Я подскочила, давай спускаться, не успела ногу на лесенку поставить — а все ступеньки, как хворост, полопались!
— Слава Богу, хоть ног не поломала, — воскликнула какая-то сердобольная соседушка.
Вперед, наставительно качая пальцем, вышел седой старик.
— А я тебе не раз говорил — стара ты, чтобы спать вот так, аки куры на насесте! Ты ведь теперь одна живешь, могла бы и внизу спать.