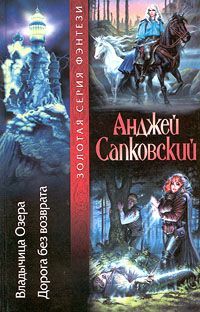— Поехали с нами, Моника.
Отойди, прошу.
— Нет… Извини. Может, в другой раз.
— Неужели чтение, коему ты себя посвящаешь, интереснее, чем перспектива моего… нашего общества? Что ты читаешь, Моника?
— Ох… Это поэзия, Яцек. Старинная немецкая поэзия.
— Это я вижу. Понял по готическим буквам, которых сам читать не люблю, несмотря на то что мой учитель немецкого сумел-таки вбить мне в голову основы языка Гёте. Чьи это стихи?
— Не думаю…
— …чтобы обычный историк мог знать такие стихи? Эх, филологи! Как же вы часто присваиваете себе монополию на познания в литературе и языках. Есть в тебе хоть какая-то азартная жилка, Моника?
Подняла глаза, полностью отдавая себе отчет в том, что поднимает лицо и очки.
— Не поняла…
— Предлагаю маленькую игру с высокой ставкой. Совсем как у Пушкина — тройка, семерка, туз. Если на основе одной-двух строк я угадаю, чьи это стихи, ты едешь с нами. Если ошибусь, уйду в печали и не буду более досаждать тебе.
На мгновение задумалась. Невозможно, решила она. Настолько малоизвестный…
— Ладно, — сказала, опуская голову, чтоб он не заметил улыбки.
Unter den Linden
Bei der Heide
Wo unser beider Bette gemacht
— Вальтер фон Фогельвейде, средневековый немецкий поэт и трубадур, жил на рубеже двенадцатого и тринадцатого веков. — Он засмеялся. — Стихи называются «Unter den Linden»[4].
Проиграла, Моника. Ваша дама бита, товарищ Герман. Забираю все рубли со стола. И тебя, Моника, забираю тоже.
Улыбнулась, на сей раз — не таясь. Что ж, подумала, может…
— Между нами говоря, — сказал он, — это тебе идет.
— Что?
— Средневековая поэзия, песни труверов, — сказал он, глядя ей в глаза. В очки, мысленно поправилась она. — Это тебе идет. Поэтическая натура, пленительно несовременная, внутренне сложная, одинокая натура. Магия. Ну, льноволосый эльф, собирайся. Едем.
— Да, — сказала, все так же слегка улыбаясь. — Что ж, слово сказано… Через минуту приду к вам. Через минуту.
— Ждем.
Она встала не сразу. Сидела, опустив голову, всматриваясь в готические буквы, витые, изогнутые, колеблющиеся, словно маленькие знамена, развевающиеся на стрельчатых башнях. Слышала звон лютни, далекий и тихий.
Белый единорог вставал на дыбы на зеленом гобелене, вскинув передние ноги в геральдической позе.
Вершина холма была ровная, плоская, словно срезанная бритвой. Домик с белеными стенами, устроившийся среди кривых яблонек, притягивал, звал к себе.
Она остановилась в нерешительности, глядя, как все сбегают вниз, к реке, по песчаному, нагретому солнцем склону. Слышала мужские возгласы и смех, далекое, негромкое позвякивание канистры с пивом. Писк девчонок, вбегающих на мокрый луг.
— Любопытный холм, правда? С первого же взгляда видно, что он не естественного происхождения.
— Да, Яцек? Почему не естественного?
— Взгляни на его форму, какая правильная. На расположение. Моника, тут могла быть когда-то крепость, стерегущая переправу. А может, храм какой-то богини, почитаемой поморами. Или место жертвоприношений, священный холм язычников — пруссов, готтов или заблудившихся кельтов? Столько народов прокатилось по этим местам, столько неисследованного скрывает эта земля… Ну, пойдем. Поговорим об этом еще на нашем роскошном привале.
— Сейчас… сейчас к вам приду. Чуть попозже. — Почему?
— Хочу пройтись. — Она опустила голову.
— Если позволишь…
— Нет, — ответила быстро. — Извини. Я одна.
Почему он так на меня смотрит?
— Ладно, Моника. Но помни, мы тебя ждем. Я хотел бы, чтоб ты была с нами. Со мной.
— Приду.
Холм. Неестественный?
Сделала шаг вперед. Внезапно почувствовала, что должна идти дальше. Потому что за спиной — черная стена бора, мокрого, темного, тревожного, а впереди — солнце и блестящая лента реки у подножия холма, среди ольх.
Лес отталкивал, шептал голосом, пронизывающим ужасом, голосом, в котором осязались злоба и угроза. Белый домик над обрывом — светлый, теплый, дружелюбный. Звал ее, притягивал к себе, уговаривал.
— Здравствуйте… Есть тут кто-нибудь?
Темные сени, в темноту вбита полоса света, набухшая кружащимися пылинками. Вхожу, непрошеная, в чужой дом, подумала она. Сейчас кто-то выйдет, глянет на меня неприветливо, и я почувствую себя отвергнутой, обиженной. И расстроюсь, хоть и сама во всем виновата. Как всегда.
Комната, заставленная темной мебелью. Тяжелый, приторный запах трав.
— Здравствуйте! Извините…
На столе — стакан в металлическом подстаканнике, ложечка, вонзенная в кофейную гущу, очки в проволочной оправе.
И книги.
Не зная, зачем она это делает, приблизилась. Книги — старинные, в ободранных картонных переплетах. Тисненные золотом буквы, говорящие, что это — энциклопедия Оргельбранда, затертые, едва можно прочесть. Она наугад открыла обложку.
Это была не энциклопедия Оргельбранда.
Эта готика не несла отзвуки лютни. Эта готика — черная и зловещая — кричала грозно, по-тевтонски.
«Geheymwissenschaften und Wirken des Teuffels in Preussen», Johann Kiesewetter, Elbing 1792.[5]
На титульном листе — пентаграмма, знаки Зодиака, другие символы, странные, тревожные.
Вторая книга. И снова под фальшивой обложкой — тяжелые, шероховатые от строк страницы и настоящий титул: «Dwymmermorc». И все. Следующая. Иной шрифт, иная печать. Человек с головой козла, скрестивший на впалой груди руки с длинными пальцами. «La lettre noire, Histore de la Science Occulte», Jules de Bois, Avignon 1622.[6]
Очередная, почти что рассыпающаяся, кричащая тремя словами, огромными буквами-пауками посреди полуистлевшей страницы: «Tractatus de Magis»[7].
И еще одна.
Когда она потянулась, чтобы открыть книгу, перевернуть оргельбрандовскую обложку, ладонь дрожала, вязла в непонятной преграде, в ауре, запрещающей доступ. И в то же время иная, противоположная сила притягивала руку словно магнит.
«Зерцало Черной Магии Басурманской от Абдула из Хасреда. Перевел Ежи Слешковский, иезуит A.M.D.G. В Кракове, в Типографии Миколая Зборского JKM Ord. Печатника, в Лето Господне 1696».
Тяжелые, слипшиеся, обтрепавшиеся страницы, поблекшие, полустертые строки. Она хотела перевернуть страницу.
Что-то остановило ее. Что-то, что завязло в горле, прилипло к нёбу — ужас, отвращение, тошнотворное омерзение. Казалось, клейкие строки со страницы незаметно вползают ей на руку. Она закрыла книгу, вздрогнула, в ушах, в голове внезапно взорвался многоголосый хорал. Бормотание, крик, непонятные слова.
Выйти, подумала она. Я должна отсюда выйти.