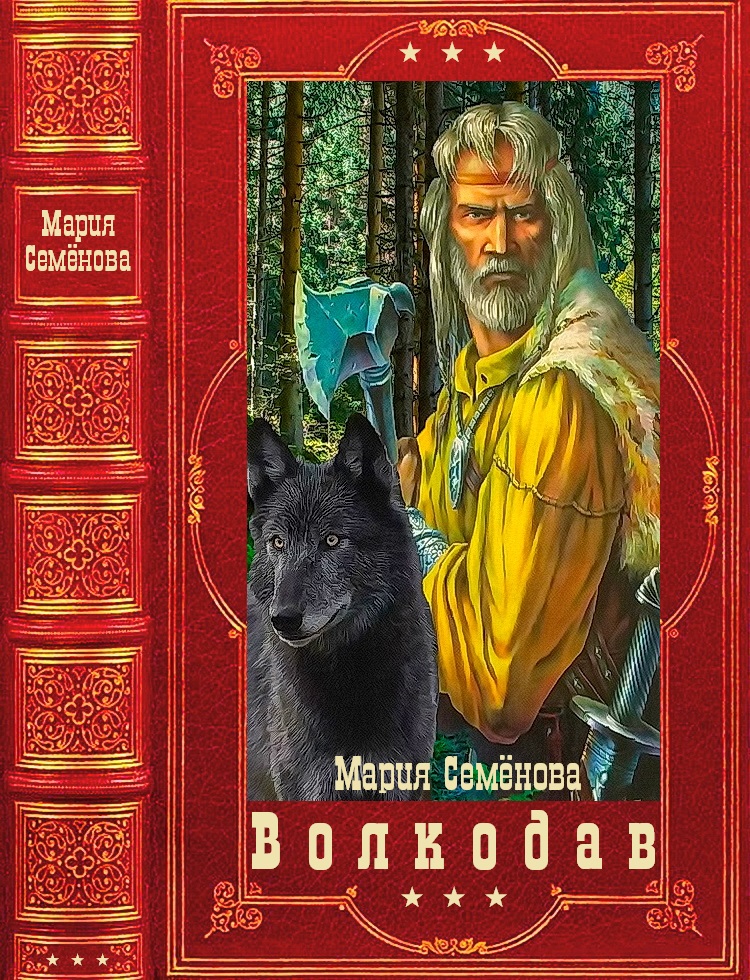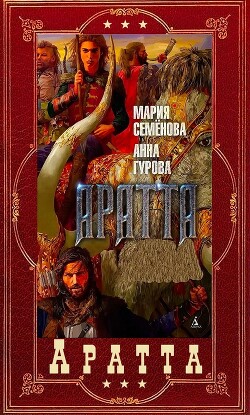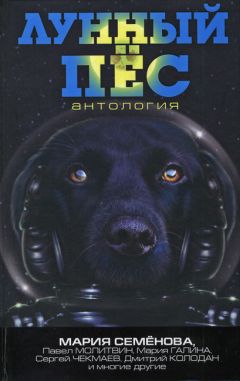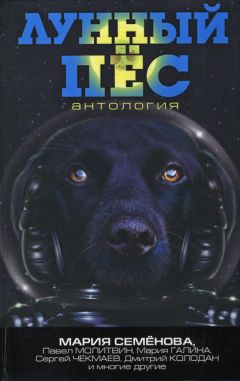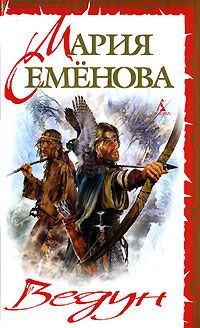то ли гнева, то ли пылкого ожидания. Галуха не хотел верить тому, что явственно слышал, но чуть погодя долетели отдалённые крики. Воображение тотчас нарисовало разинутую пасть волны вроде той, что он видел у Сечи. Только много чудовищней – до самого неба. Галуха выскочил из-под утлого полога, не успев родить осознанной мысли. Взгляд тотчас обратился на запад… чтобы упереться в кромешную стену, мчавшуюся с Кияна.
Галуха закричал, сорвался в бессмысленный бег, запнулся, упал, начал ждать сметающего удара… понял наконец, что не волна летела на берег, а голомня вызревшей бури.
Люди кругом деловито крепили палатки. У кого были надёжные жилые сани – сворачивал шатры, прятался в болочке. Упряжные оботуры нашли себе заветерье, скучились в нераздельный целик, обратились к морю хвостом.
Галуха перевёл было дух, но тут волосы заново приподняли куколь. Могучая Светынь дыбилась, готовая броситься в яростные объятия Кияна. Ильмень, всегда отъединённый от русла широкой галечной гривой, превратился в жадный чёрный язык, щупальце, загребущую руку, подползавшую к обитаемому угору… такому отлогому и плоскому, вот-вот зальёт…
Пока Галуха таращил глаза, мысленно отдавая короб с вагудами, санки, одёжу до исподних порток… какое, и портки тоже, за право жить ещё день… – ударила голомня. Мрак над Кияном стал вдруг смутно белёсым, обратился снежной стеной, весь скопом рухнул на берег. Чёрная оттепельная земля вмиг поседела. Галуха перестал видеть и слышать, его хлестало, крутило, повергало на четвереньки, в рот, разинутый для дыхания, снегу вбивало больше, чем воздуха. Потом чем-то облепило, окутало, ослепило вконец, он забился, пытаясь освободиться, узнал свой полог, сорванный вихрем. Кое-как выпутавшись, Галуха пополз вперёд, чтобы вскоре наткнуться на опрокинутые чунки. Хвала Владычице Милосердной, он недалеко от них убежал.
Вот минул первый натиск подсивера. Галуха смог оглядеться. Половина шатров перестала быть, превратившись в отлогие бугорки. С тех, что выстояли, отвалами сходил снег. Примятые бугорки шевелились. Люди откапывались, откапывали друг дружку. Звучали матерные славословия, благодарственные, весёлые, злые.
Разошедшийся накат корёжил причалы. Тяжёлые брёвна вздыбливались и ломались. Со стонами расседались крепкие ряжи.
– Опять лес добывать, в который раз всё заново строить, – горевали где-то рядом.
– Сказано, гриву перекопать бы, – упрямо ворчал другой голос.
Первым побуждением Галухи было закутаться в полог, лечь позади санок и ждать, чтобы выдохлась буря. Что-то мешало ему, наверное мутный свет, рисовавший палатки жемчужными призраками по тёмному своду. А там, дальше, еле видимая сквозь потоки чуть поредевшего снега, врывалась в Киян грохочущая Светынь. Клубящимся чёрным клинком – в нависающий, необозримый колышень. Рубеж отмечала сутолока волн, скалившихся буйными гребнями. И в этой борьбе жила песня. Голоса, полные божественного величия. Подголоски, гулы, посвисты, звоны…
Песня завораживала. Галуха забыл сквозной холод, мысленно обозревая известные ему вагуды. Шувыра, бубен, глиняная дудка…
Громкий крик прервал восторженные раздумья:
– Корабль!
Кто-то очень глазастый различил в несущейся тьме тугую косыню паруса, увязанного ради лютого ветра.
– Разобьётся, – предрекли слева.
– Может, волной вынесет что, – понадеялись справа.
– Какое! – отмахнулись сзади. – Щепочки не уцелеет.
Галуха оставил брезжившие погудки, напряг зрение. Кому-то было угрозней и хуже, чем ему самому, и на это стоило посмотреть.
Злые предсказания не сбылись. Отчаянный кормщик умело опирался на ветер и, кажется, знал каждый камень-поливуху в устье Светыни. Оседлав волну, корабль миновал буруны сутолоки, опасно припал на левую рыбину, перепрыгивая затопленную гриву…
Вошёл в ильмень.
– А я о чём? Давно пора проран выкопать!
– И что назавтра от твоего прорана останется?
– А испытать, чья возьмёт!
Галуха ещё посмотрел, как смелые корабельщики сворачивают парус, находят место для высадки. Однако заплатник с чужого плеча был слишком скудной заступой от ледяных стрел ветра. Галуха закутался в полсть, сверху добавил полог, лёг за санками. Буря гнала снег, выла над головой.
Галуха хотел заснуть, как много раз засыпал прежде – в снегу, утянув руки из рукавов к телу, а голову – из куколя внутрь. Ну, там, проснуться, разогнать онемение… спать дальше, дожидаясь утра. Не получилось. Галуха мёрз. Последние дни ему совсем плохо подавали за песни. Где взять телесную греву, когда брюхо липнет к спине, а спину вместо шубы кутает ветошный зипун?.. Галуха стучал зубами, ворочался, сбивался в плотный комок, обнимал себя, совал руки под мышки. Не помогало. Он вставал и топтался, волоча за собой полог. Снова укладывался.
Когда наконец удавалось забыть жестокую явь – голоса зевак выдёргивали обратно:
– Вось сходни бросили, на берег идут…
Соседям по становищу не давал покоя корабль.
– Пойти, что ли, глянуть поближе, кого там ветром принесло.
– Куда спешить, развиднеется, тогда и посмотрим.
Галуха пытался вспоминать старые песни, благо их в его памяти было – сундуки на сундуках. Строки наплывали с готовностью, дразнили, но не давались. Уловишь одну – другие развеиваются, меркнут. Это утомляло, песни начинали странно сплетаться…
– Шатры ставят, а парус всё наготове.
– Как есть шальные люди. Неистовые.
– От таких подальше держись, голова целей будет.
– Мыслишь, лодья дальше пойдёт?
– Будто в ильмене останется? А вода схлынет?
– Вот тогда проран выкопаем.
«Самовидца рассказ и досужих людей пересуды…» В зыбком полусне проплыло лицо опасного витязя Незамайки. Обожжённое морозом, суровое, юношески улыбчивое. Дикомытские косы, неторопливый северный выговор, а глаза…
– Гляди, впрямь парус расправили!
– Вот ухо-парни, сорванцы, сломиголовы!
– Таким до Аррантиады – как нам отсель в Шегардай.
…Ручищи на струнах, яростный голос… будто отзвук слышанного когда-то… Галуха вот-вот должен был догадаться… он почти уже знал…
– Ай каков! Назад в русло выскочил!
– В Киян правит!
– Ну и люди! Морем сыты, ветром обуты.
– А те-то, при шатрах? Мстится или впрямь знамя поставили?
– Да ну. Воеводы с дружинами пеши приходят.
– А на знамени что?
– Снег застит, не видно.
– Вроде камень, дяденька. Палка при нём.
– Погодь… Самому тебе палку! Меч там!
Эти и другие слова тянулись над Галухой сквозь мутное забытьё. Снежными струями, ветровым посвистом. Потом вдруг обрели весомость и…
Галуха рывком сел.
Камень! Скала и меч!
Скала и меч!
Родовой щит красных бояр Нарагонов!
Галуха забился внутри обширного зипуна, продевая руки в залубеневшие рукава. Торопливо встал.
Над Устьем понемногу светало. Ветер ещё рвал растяжки палаток, хотя уже не грозил их повалить. Светынь по-прежнему бушевала, но ильмень снова стал озером – грива, прежде скрытая под саженным слоем воды, помалу выпячивала каменистый хребет.
– Быстро свадебка отшумела.
– То не свадебка. Так, пустосват приходил.
– Не ложе брачное – поцелуй заугольный…
У берега поймы стояли шатры смелых.
И на ветру билось гордое знамя. Такие ставят воеводы Левобережья. И бояре Андархайны, потомки древних воителей.
Галуха напряг зрение, но зоркости не хватило. Снег высек слёзы из глаз.