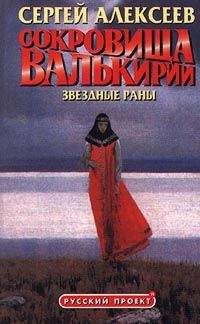— Из Москвы ей лучше помочь. Мы с тобой всех начальников на ноги поднимем. Хоть вполовину, но срок скостим. Ты где ногу потерял? На войне?
— Если бы… В карты проиграл.
— А что, такое бывает?
— Когда надо отыграться — всякое бывает.
— Ножом отпиливал?
— Зачем? — тесть довольно усмехнулся. — Под лесовозный вагон на узкоколейке засунул — как в операционной.
— Напишем в жалобе, инвалид-фронтовик. Сейчас такой бардак, проверять не будут.
Чудесное освобождение из милиции и честь, оказанная властями, убедили Василия Егоровича во всесильности генерала, и он согласился.
— Хоть бы вполовину скостили, и то дело. Знаешь, что такое два с половиной года лишних сидеть?
Отпускать его от себя сейчас Мавр не имел права еще и потому, что Притыкин был тем самым фальшивомонетчиком Самохиным, которого он выследил и арестовал в сороковом году и который был приговорен особым заседанием на двадцать пять лет лагерей. Видимо, в сорок пятом, когда Пронский «погиб» и воскрес другим человеком, в аппарате посчитали, что Василий Егорович не представляет теперь никакой опасности, получив такой большой срок, и контакт с ним, кто бы ни захотел, невозможен, к тому же особые приметы были тщательно закамуфлированы.
Подобных «крестников» у Мавра насчитывался не один десяток, но, возможно, Притыкин оказался единственным оставшимся в живых.
Он, вроде бы, успокоился относительно местожительства, да только под утро разбудил, когда подъезжали к Вологде, и стал приставать по другому, самому щепетильному поводу.
— Ты мне скажи, зятек, а как это тебе удалось нас отмазать? Ну, ладно, сам выскочил, но почему меня отпустили? Я же до сих пор на учете числюсь. Как паленые доллары покажутся где, так у меня обыск, пару ночей в каталажке. Говорю им, все эти колумбийские и чеченские подделки — туфта, рассчитанная на слепых и дураков. Я делал настоящие деньги!.. Не верят. Или суют доски, инструмент, мол, покажи, какие!.. Дурака нашли.
— Наслышан! У тебя, говорят, и фамилия была другая.
— Кто говорит? — насторожился.
— Да этот подполковник из ФСБ.
— Была другая фамилия. Сменил, думал, трогать меньше будут. Куда там!.. Так за что выпустили меня?
— За что — садят. А выпускают за особые заслуги.
— И за какие, интересно?
— Навели справки, я же все-таки генерал и Герой Советского Союза, — равнодушно отозвался Мавр. — А тебя вытащил как тестя.
— Я ведь вроде бы узнал тебя, но когда нас повязали, подумал, ошибся. А теперь опять сомневаюсь. Очень уж ты похож на одного опера. Докажи, что у тебя на щеке не шрам, складка — поверю.
— Складка, можешь посмотреть утром.
— А почему только на одной щеке? Обычно морщины и складки бывают симметричными.
— Откуда ты все знаешь? — Мавр привстал. — Отвяжись!
— Строгановское закончить не дали, но я другое училище закончил, двадцать пять курсов и еще пять — ординатуры.
— Контуженных видел? Так вот это ее последствия. У меня вообще после войны была асимметрия лица. Рожу набок свернуло… На юге нервы подлечил — прошло.
В другие времена за подобные сомнения и подозрения Притыкин бы непременно угодил в психушку. Ходил бы там и рассказывал про генералов…
— Ладно, утром хорошенько рассмотрю, — согласился он. — Понимаешь, этот опер, на которого ты похож, первый раз не взял меня. Пришел за мной ночью, в одиночку — шустрый был. В подвале нас застукал, с поличным. Я свет рубанул, как только он заскочил, схватил штихель и в потемках полосонул. Нас там трое было, так он и не узнал, кто… А потом уже целой кодлой меня брали, со стрельбой дело было…
— И как же тебя за такие подвиги к стенке не поставили? — подавляя назревающую ярость, спросил Мавр.
Он до сих пор не знал, кто его пометил и кто подпортил карьеру: с таким шрамом нечего было думать об оперативной карьере или разведке. В войну он вообще получил прозвище — Скорцени…
— От вышки спасся, — облегченно вздохнул тесть. — Доказали бы, что я ему штихелем физиономию подкорректировал, — шлепнули бы враз. А так двадцать пять всандалили.
— Фамилию опера помнишь?
— Да как ее забудешь?.. Пронский Александр Романович.
— Мы его разыщем, — пообещал Мавр. Притыкин помолчал, слушая стук колес, расслабил напряженные руки.
— Вряд ли… Я ведь «в законе» был, все лагерные известия знал. А в лагерях, скажу тебе, можно узнать все, что на зонах творится и что на воле. И особенно просто получить информацию о следователе. Я заявку сделал на опера, и мне весть пришла, немцы его кончили, в сорок пятом. А потом, уже, в пятьдесят третьем, меня по ошибке выпустили, со всеми чохом. Бардачина в стране начался…
— Так ты всего тринадцать отбарабанил? — Мавр хотел отвлечь его от темы.
— Ну да! В пятьдесят пятом опомнились, несмотря на другую фамилию, схватили и три года в тюрьме держали. Томила родилась через четыре месяца, — он вспомнил старое горе. — На зону пошел, как на волю. В шестьдесят седьмом на поселение вышел, жена приехала с дочкой. Подкормиться хотел, ну и начал клишинки резать — застучали и еще шестерик. Хотя там на четвертных надпись была, в картуше — знаешь, где написано, подделка преследуется и так далее? Так вот там я написал «имеет цену и хождение только в зонах». Не рассмотрели, что ли… В семьдесят третьем откинулся.
— Я намного раньше, — потянул на себя одеяло Мавр, одновременно рассчитывая на чужие уши, — на станции Харовской мужичок подсел, деревня дремучая, голь перекатная, а в купе залез.
— Из зоны, что ли? — ухмыльнулся тесть.
— Военные городки — те же зоны…
— Но ты же генералом служил! Сам себе хозяин.
— В армии один хозяин — министр обороны. Да и над ним начальства хватает.
— Я тоже хотел на фронт, заяву писал, — похвастался тесть. — С моей статьей даже воевать нельзя. А когда в Строгановке начал клише резать — в голову даже не пришло. Руку набивал, упражнение… Настоящая купюра получилась с шестого раза. И напечатал-то всего три тысячи восемьсот рублей.
Мавр помнил всю эту историю и сейчас мысленно ловил студента Самохина на вранье. Он был талантлив от Бога, считался надеждой графического жанра и стал подменять фабрику Госзнака уже с третьей, а не шестой попытки, и выпустил денег на общую сумму девяносто четыре тысячи. А сколько было напечатано с тех клише, что он продал, установить так и не удалось. Другое дело, с каждой новой работой резко возрастало качество, так что последние его опыты давали оттиск на самодельной денежной бумаге несколько лучше, чем на государственной фабрике.
Как художник, тесть отличался большой скромностью и завидным постоянством: Самохин, он же Притыкин, самые важные, нужные и драгоценные вещи резал из твердой, как кость, акации.