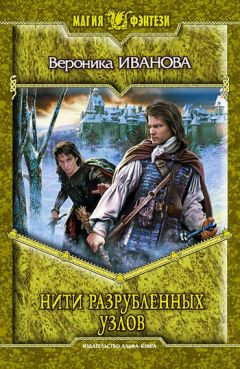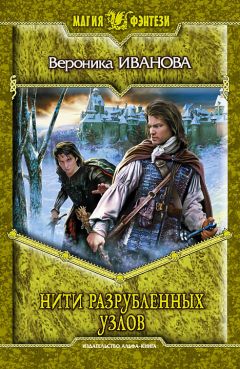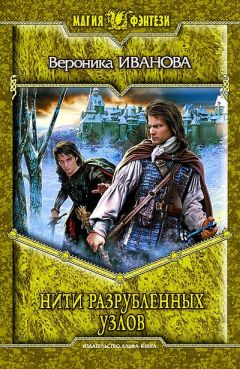На окружившем меня кольце, прежде одноцветном и гладком, вспыхивает звездчатая вставка, разрывающая белую полосу. За клочком золотистого марева проглядывает прежний мрак, наполненный моими чувствами и более ничем.
Надо вернуться туда, пока не поздно. Выскользнуть из расставленной ловушки. Я хочу убежать, но не знаю, как это сделать, а бестелесный голос звучит все громче.
«Я хочу убраться отсюда живым…»
Убраться, да. Я тоже хочу. И конечно, лучше всего живым. Не могу не согласиться. И как только мысленно повторяю чужие слова, кольцо мгновенно становится по-прежнему цельным.
Белизна, сменившая мрак, надвигается, но не приносит с собой света. Свет приходит потом, когда стена, простирающаяся из бездонной глубины в бескрайнюю высоту, сжимает меня в своих ладонях. Он слепит глаза, но мгновением спустя начинает и греть. Только тогда я понимаю, что в той странной ночи было холодно. Было так зябко, что все тело застыло куском льда и потому не желает двигаться.
Тело?!
Цвета, звуки, ощущения наваливаются все вместе и сразу, заставляя сознание кружиться, и приходится покорно ждать, пока их хоровод остановится, чтобы…
– И что теперь, бальгерито?
Спрашивает женщина. По крайней мере, платье, надетое на ней, с подоткнутым подолом, обнажающим колени и высокие сапожки, не позволяет в этом усомниться. Черноволосая, смуглая, как мореное дерево, насмешливо крутящая в сильных, не чуждых труду пальцах длинный широкий нож. Лезвие не слишком хорошо выведено, но при такой толщине клинка нет никакой разницы, заточено оружие или нет. Один-единственный удар, пришедшийся в нужное место, – и кость послушно распадется надвое, лишая противника возможности сражаться.
– Где же твой прежний задор?
Она продолжает спрашивать, вот только вряд ли ее интересует ответ. И ее, и троих мужчин, стоящих полукругом за спиной своей предводительницы и готовых атаковать. По виду селяне или что-то в этом роде, если наряжены в холщовые штаны и рубахи. Разноцветные платки, повязанные на лицах, позволяют разглядеть только глаза, впрочем, и этого довольно, чтобы понять: шутить такие люди не собираются. Иначе зачем взяли в руки оружие? Чуть искривленные лезвия старших братьев ножа, которым играется женщина, явно не позволяют вплотную сближаться с противником, но на дистанции должны быть опасными. По крайней мере, для того, кто остался один против четверых.
Один…
Два тела лежат внизу, под ногами. Неподвижные, залитые кровью, уже лениво текущей из резаных ран. Два мертвеца в черных костюмах. Покрой кажется мне отчасти знакомым, но цепь, сбегающая по камзолу того, кто лежит на спине, выглядит слишком странно, чтобы быть украшением. Слишком грубая ковка, а пряжка, которой последнее звено крепится к груди, зачем-то выкрашена красной краской.
Они тоже были вооружены. При жизни. Очень похожими клинками. Но, видно, владели ими куда менее умело, чем нападающие, если потерпели поражение. Из троих остался только один, облаченный в такой же костюм, отмеченный цепью. Цепью, которая висит примерно на полпути от моих глаз до носков сапог.
Тоже моих?!
Взгляд опускается все ниже, добираясь до рук. Пустых, хотя им надлежало бы держать оружие. Оружие, лежащее сейчас на земле, слишком далеко, чтобы можно было до него добраться одним движением. А к тускло поблескивающему лезвию медленно подползает по витому шнуру истончающаяся алая струйка.
Крови из полуотрубленных пальцев вытекло немного, но рукоять, конечно, сразу же стала скользкой. Слишком скользкой. А на перехват времени, похоже, не было, потому человек и остался один перед четырьмя врагами.
Один…
А как же я?!
Нас же двое, значит, шансы на победу вырастают во столько же раз. Эй, приятель! Не все еще потеряно, слышишь? Я помогу тебе. Сейчас, позволь только…
Кровь стекает из пальцев, на которые я смотрю. Пальцев, находящихся на руке, вырастающей из плеча рядом с моим подбородком. И коряво выкованная цепь глухо звякает именно на моей груди, когда ноги невольно подгибаются и делают шаг назад, чтобы удержать тело от падения на ковер желтоватой травы.
Нас двое?
Боли по-прежнему нет, хотя половина пальцев едва держится на полоске кожи и остатках мышечных волокон. Не чувствую. Ничего не чувствую.
– Прочитал свою мерзопакостную молитву или дать тебе еще минутку на прощание с жизнью?
Женщина явно теряет терпение. И торопится. Чего-то опасается? Наверняка.
– Вас… всех… казнят…
Кто это говорит? Ах да, тот, с кем я каким-то странным образом разделяю одно тело. Вот только голос, наперекор смыслу сказанных слов, звучит не так уж и уверенно.
– Ты на нашей казни уж точно присутствовать не будешь!
Женщина переступает с ноги на ногу, изящно, но одновременно сильно, словно танцовщица, и из-под высокого каблука с травы поднимается облачко пыли.
– Вас… всех…
Он не намерен сражаться, это я чувствую. Затравленно повторяет одно и то же, попросту не зная, что делать. Зачем тогда звал? Зачем просил о помощи?
Дрожит мелкой дрожью. Или крупной, но до моих ощущений долетает лишь ее эхо. Наверное, это сон. Бывает же такое, что закрываешь глаза и оказываешься там, где никогда не был?
«Я хочу убраться отсюда живым…»
Слова, уже успевшие надоесть, назойливыми насекомыми жужжат вокруг. Хочется отмахнуться от них, но в какой-то миг одно, подобравшееся ближе других, выпускает жало и… И я успеваю пожалеть, что так беспечно не оценил по достоинству отсутствие боли в беззвездном мраке.
«Я…»
За первым укусом тут же следует второй.
«Хочу…»
Невидимая игла пронзает меня или то, что от меня осталось после путешествия через ночь. Пробивает насквозь. Но тело труса, попросившего о помощи, остается неподвижным, значит, происходящее реально лишь для меня одного. А следом за иглой тянется нить. Один стежок. Второй. Сшивающий по живому.
Пальцы раненой руки вздрагивают или мне это только кажется?
«Убраться…»
Теперь ощущения становятся похожи на последствия от удара плетью.
«Отсюда…»
Точно. Меня никогда не пороли, но я откуда-то знаю, что, если бы отец вознамерился наказать своего отпрыска, боль оказалась бы точно такой же.
«Живым…»
Конец невидимого бича обвивается вокруг шеи и затягивается. Все туже и туже. Он порвал бы кожу и сплющил мышцы, если бы существовал в действительности, но то, что я не чувствую ни прежнего своего тела, ни нынешнего, не мешает мне корчиться от боли.
«Я-хочу-убраться-отсюда-живым!»
Чья-то чужая воля, вторя странной скороговорке, разрывает меня на части. Разбирает на кубики, словно я – не человек, а детская игрушка. Но кто собирается построить из меня дом и зачем?