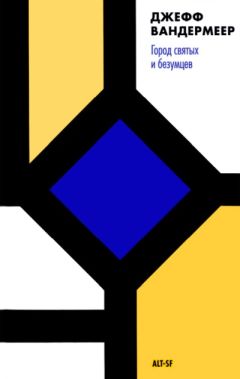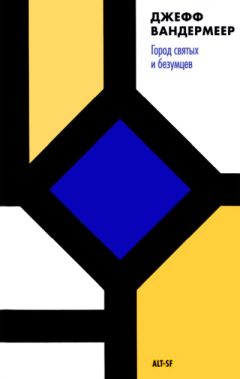Когда раз за разом они приходили ко мне и терли мою лысую голову, до меня понемногу дошло, почему меня пощадили. Это так просто, что я невольно смеюсь при одной этой мысли: я похож на гриб. Скорей! Известите власти! Я должен послать весточку в верхний мир, сказать им, пусть все побреют головы! Даже сейчас я не могу сдержать смеха, что удивляет моих тюремщиков и мешает писать разборчиво.
Ниже, между рассуждением о божественных свойствах лягушек и диатрибой против межвидовых браков, Тонзура дает нам возможность еще раз заглянуть в мир грибожителей, зачаровывающий читателя точно блеск золота:
Меня привели в огромный зал, не похожий ни на что из того, что мне доводилось видеть раньше, будь то над или под землей. Там мне открылся сияющий серебром дворец, возведенный исключительно из переплетшихся меж собой грибов и украшенный зелеными и синими мхами и лишайниками. В воздухе вокруг него витал сладкий, сладостный аромат. Поддерживающие это жилище колонны были созданы как будто из живой ткани, ибо отшатывались от прикосновения… Вот из дверей выходит правительница данной области, но сама она ничтожна в сравнении с властелинами этих земель. Все сияет неземным великолепием, и один за другим проситель преклоняет перед правительницей колени и молит ее благословения. Мне дали понять, что я должен выступить вперед и позволить правительнице потереть мне лоб — на счастье. Я должен идти.
Другие записи намекают, что Тонзура предпринял по меньшей мере две попытки бежать и что за каждой последовало суровое наказание, а во втором случае — частичное ослепление[119], и как минимум одна фраза предполагает, что впоследствии его тайно вывели на поверхность: «О, какая мука слышать, как посмеивается подо мной река, чувствовать на лице ночной ветер, обонять соленый ил, но ничего не видеть». Впрочем, возможно, Тонзуре надели на глаза повязку, или же он так долго провел под землей и был настолько дряхл, что его глаза уже не могли привыкнуть к внешнему миру, будь то день или ночь. Поскольку его чувству времени нельзя доверять, мы можем только гадать, сколько ему было лет на момент этой записи.
Наконец, ближе к концу дневника Тонзура излагает ряд эпизодов, скорее всего снов наяву, порожденных длительной диетой из микофитов и сопутствующими им испарениями:
На каталке меня вкатили в стальной зал, и внезапно в стене появилось окно, через которое передо мной возникло видение города, напугавшее меня более всего, что мне довелось здесь увидеть. У меня на глазах город разросся из построенного моим бедным потерянным капаном порта до столь чудовищных размеров, что здания закрыли собой полнеба, и что в самом небе свет и тьма, потом снова свет сменяли друг друга стремительными сполохами, и облака бежали по нему, гонимые шквальным ветром. Я видел воздвигнутый за несколько минут великолепный дворец. Я видел повозки, которые двигались без лошадей. Я видел битвы, которые велись и в городе, и за его стенами. И под конец я увидел, как река затопляет улицы и как серошапки снова выходят на свет, восстанавливают свой древний город в его прежнем обличье. Тот, кого я называю Смотрителем, плакал, узрев это видение. Неужели оно явилось и ему тоже?[120].
Затем следуют десять страниц, полных столь подробных и неистовых описаний труффидианских обрядов, что можно только заключить, что они создавались как бастион против безумия и что в конечном итоге, когда у него кончилась бумага, с ней иссякла и надежда — и далее он или писал на стенах[121], или поддался отчаянию, которое сопровождало его каждый проведенный под землей день. И верно, последняя строка дневника гласит: «Неумеренная любовь к ритуалу может быть пагубна для души, если только это не в момент великого кризиса, когда ритуал способен предохранить душу от трещин».
Так канула в небытие одна из самых влиятельных и загадочных фигур во всей истории Амбры. Благодаря Тонзуре труффидианство и капанство по сей день неразделимы. Обучение под началом монаха вдохновило административный гений Мэнзикерта II, а его советы воспламеняли и сдерживали Мэнзикерта I. Аквелий бесконечно изучал его дневник, быть может, в поисках какой-либо подсказки, которая касалась бы его, и только его одного, благодаря тому, что он пережил под землей. К написанной Тонзурой (никогда не выходившей из печати) биографии Мэнзикерта I и его дневнику ученые-историки раз за разом обращаются как к источнику сведений об истории и быте ранней Амбры и раннем труффидианстве.
Если дневник что-то и доказывает, то только одно: под верхним городом существует другой, так как Цинсорий не был разрушен окончательно, когда София уничтожила его наземную часть. К несчастью, все попытки разведать подземелья оборачивались катастрофой[122], и сейчас, когда в городе нет центрального правительства, маловероятно, что они повторятся впредь — особенно если учесть, что нынешние власти (в той мере, в какой они сейчас существуют) предпочитают, чтобы тайны оставались тайнами — ради туризма[123]. Надо думать, два очень несхожих между собой общества так и будут развиваться бок о бок, отделенные друг от друга всего несколькими футами цемента. В нашем мире мы видим красные флаги грибожителей и то, как тщательно они очищают город, но нам не дозволено хотя бы в такой малости воздействовать на их владения, разве что с помощью отходов, сбрасываемых в канализационные трубы.
За прошедшие годы достоверность дневника неоднократно подвергали сомнению — в последний раз писатель Сирин, который утверждает, будто дневник на самом деле фальсификация, основанная на биографии Мэнзикерта I. Он указывает на писателя Максвелла Свирепа, который жил в Амбре приблизительно сорок лет спустя после Безмолвия. По словам Сирина, Свиреп внимательно изучил написанную Тонзурой биографию, включил ее элементы в свою подделку, выдумал рассказ о подземельях, использовал для второй половины диковинные пурпурные чернила, дистиллированные из пресноводного кальмара[124], а затем явил миру «дневник» через одного друга в Бюрократическом квартале, который распространил слух, будто Аквелий на протяжении полувека скрывал этот документ. Теория Сирина не лишена привлекательности: Свиреп ведь подделал ряд государственных документов, чтобы помочь своим друзьям присвоить часть средств из казны, а его романы содержат ряд отчаянных эскапад, соответствующих «разумным» фрагментам в последней части дневника[125]. Подстегнуло полемику и то, что Свиреп был убит (ему перерезали горло в переулке, куда он свернул по дороге на почту) вскоре после того, как дневник был предан гласности.