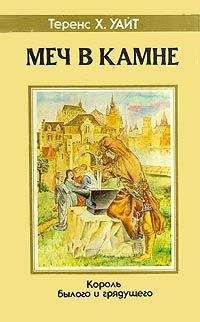— Ну наконец-то!
— Смотри-ка, они насчитали тринадцать чистиков, пятнадцать олуш, пятьдесят-семьдесят моевок, двух серебристых чаек, двух малых буревестников и одного большого!
— Завтра же, — с важностью сказала Джуди, — пойду и всех пересчитаю.
— И еще одно, — довольным тоном сказал ее брат, — высадиться им так и не удалось.
Островные техники — люди скромные, почти бутафорские, или, если угодно, статисты в драме Роколла, — приступили к своим обычным занятиям. Те, что остались дежурить, по-прежнему поглядывали на дремлющие или мечущиеся стрелки индикаторов, вытирая ветошью руки, а те, что сменились с вахты, терпеливо возились со своими перьями, клеем и кораблями в бутылках. Кораблестроитель просовывал в горлышко бутылки капитанский баркас, — добавление редкое, требующее особого мастерства, и повышающее, так же как добавление миниатюрного маяка, ценность изделия. Мужчина, клеивший перья, надумал добавить на крышке коробки дружескую надпись и курсивом выводил, используя оперение серебристых чаек: «CEAD MILE FAILTE». Он пропустил второе L, и ему еще предстояло неприятно удивиться, обнаружив недостачу.
Пинки намеревался принять душ. Огромный чернокожий Умслопагас, чьи оголенные мускулы отливали атласом и ходили плавно, как поршни, несмотря на то, что голову его словно бы припушило инеем, он стоял, уперев разведенные руки в стены душевой кабинки и глядел себе под ноги. В полу желоба помещался фарфоровый лоток глубиной около двенадцати дюймов, снабженный затычкой, с помощью которой лоток обращался в подобие мелкой ванны. В этой сияющей белизной крутостенной чаше сидел паук с длинными ножками и маленьким тельцем. Ему никак не удавалось выбраться наружу.
Пинки, отключивший воду, едва он увидел это создание, стоял, перенеся вес на одну ногу, и размышлял о том, что ему делать с пауком, к которому он боялся притронуться.
Поразмыслив, он сходил к умывальникам и вернулся со щеткой для волос. Он сунул ее пауку под ноги, но паук отпрянул. Тогда Пинки принес вторую щетку и, ухитрившись с их помощью поднять паука, не причинив ему вреда, осторожно отнес его к двери спального отделения и там отпустил на свободу.
Он вернулся в душевую, и вода вновь зашелестела по его эбеновым плечам, придавая ему сходство со статуей версальского каскада или с Нептуном в римском фонтане. Струи воды укрывали его. Он думал: «Паук на Роколле? Откуда он взялся? Наверное, приплыл вместе с грузом на траулере.»И еще он думал, — ибо обладал куда большими, чем подозревали окружающие, познаниями: «Первым живым существом, забравшимся после извержения на Кракатау, был паук.»
Мистер Бленкинсоп, облаченный в один из своих вечерних халатов, сидел у себя в комнате и, сплетя кисти рук внутри рукавов, медитировал.
Он и вправду мог бы подарить детям еще немалое число китайских безделушек. Вдоль стен комнаты рядами шли встроенные шкафы со сплошными дощатыми дверцами, сквозь которые невозможно было разглядеть что-либо, но стоило их открыть и за ними обнаруживалось целое собрание украшений для мечей, — всяких там цубо и фучи, — перегородчатых эмалей, великолепных образчиков суцумского фарфора, — одни, подобно черепу Хозяина, были усеяны трещинками, другие словно бы запорошены золотой пылью, третьи покрывал едва ли не миллион прописанных во всех подробностях бабочек. Из крышек фаянсовых мисок вырастали фарфоровые жабы и позолоченные львы, скалившиеся, положив когтистые лапы на решетчатые сферы. Скрывались за дверцами шкафов и резанные из кости фигурки фантастических кули, — полулюдей-получерепах, иногда подпрыгивающих на одной ножке, может быть, потому что они только что наступили на жабу, чье резное изображение также помещалось у них под подошвами, — и статуэтки из бронзы и иных сплавов, и гонги, и множество крохотных фаянсовых чайных сервизов. Вкус Китайца тяготел к японскому великолепию. В самой комнате наличествовало всего лишь два украшения. Одним из них было принадлежащее кисти Гэнку затейливое изображение павлина — истинная Ниагара роскошных перьев, выписанных с бесконечными, тончайшими подробностями. Другим — лаковый алтарь Цунайяши, столь замысловато вылепленный, инкрустированный, апплицированный, эмалированный, покрытый таким обилием рельефов и золотых, черных и вермильоновых лаков, с таким множеством уступчиков, полочек, отделений и столбиков с нишами, столь усеянный металлическими вставками, мерцающими и шагреневыми поверхностями и пышными, чешуйчатыми драконьими хвостами, что он, казалось, взрывался множеством распахнутых маленьких дверок и чуть ли не светился собственным светом.
Среди всех этих сокровищ, спиной к ним сидел на простой циновке мистер Бленкинсоп, закрыв глаза и стараясь по возможности не думать.
Причина, по которой ему хотелось избавиться от Хозяина, была совсем проста, равно как и та, по которой он не хотел огорчать мистера Фринтона, называя ему эту причину. Подобно Трясуну МакТурку, мистер Бленкинсоп желал сам править миром. Но между намерениями этих двух имелось и некоторое несходство. Трясун алкал власти, мистеру Бленкинсопу вовсе не нужной. Дело сводилось не к тому, что он хотел править, — он не хотел, чтобы правили им. Мистеру Бленкинсопу представлялось, что после того, как Хозяин преуспеет в объединении наций, сам он, в качестве объединителя, станет избыточной роскошью. Без него управляться с делами будет гораздо проще.
Одним из законов, правивших поступками мистера Бленкинсопа была простота. Самое целесообразное — это по возможности чаще говорить правду. Он и в самом деле намеревался избавиться от Хозяина, едва лишь аппаратура, над которой Хозяин трудился, будет доведена до совершенства, — при тех знаниях, которыми мистер Бленкинсоп уже обладал, он вполне мог пользоваться ею без посторонней помощи: он намеревался избавиться также и от мистера Фринтона, а при необходимости и от любого другого, если этот другой обратится для него, так сказать, в угрозу. Ради спокойной жизни — все, что угодно. А покамест, честность — лучшая политика. Чем меньше врешь, тем меньше приходится утруждать свою память.
До поры до времени мальчишка нужен ему здесь, — будет кому подавать напитки.
У себя в будуаре, в фокусной точке предательств, военных хитростей и мародерских устремлений, сидел возле фонографа и слушал Баха Хозяин. Используя некую бесконечно малую часть своего мозга, он играл в солитер. Синюшные руки мерно сновали над доской, со стуком переставляя шарики. Игра, проиграть в которой он все равно не мог, в сущности, занимала лишь его руки, подобно вязанию.
Глава двадцать седьмая
Обзор новостей