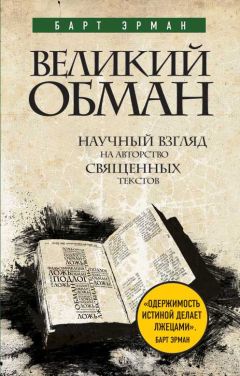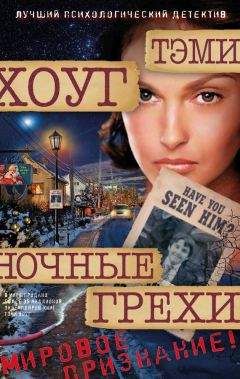неё в глазах слёзы.
– Я не сержусь, дорогая. Вам же нужно когда-нибудь вырасти, правда?
Индиго отбросила простыню и сверкнула глазами на Тати.
– Я же сказала – не сейчас!
Тати убрала руку от моих волос, словно её обожгло. Плечи у неё поникли. Она повернулась к двери и обиженно сказала:
– Попрошу миссис Реванд принести аспирина и воды.
Когда мы остались одни, я повернулась к Индиго. Во рту стоял кислый привкус, а язык казался шершавым.
– С кем ты говорила прошлой ночью?
Взгляд у меня был затуманен, и, наверное, воображение сыграло со мной злую шутку, но на миг мне показалось, что глаза Индиго побелели от ужаса.
– Ни с кем, – ответила она. – Ничего такого.
– Но я же слышала, ты с кем-то говорила. Ты была очень расстроена.
– Нет, – холодно заявила Индиго, поворачиваясь ко мне. – Ты ничего не слышала, потому что ничего не случилось. Чего бы это ни стоило, думаю, мы удовлетворились этим экспериментом. Нет нужды повторять.
Это был первый раз, когда она солгала мне, и я хотела разозлиться, но как я могла? Ведь я ей тоже лгала.
Морда каждой сказки перепачкана кровью. Иногда кровь слизывается до начала истории – королева медленно истекает кровью на родильном ложе, чума опустошает землю, прежде чем «Однажды давным-давно» выползает из темноты. Но время от времени можно увидеть густой поток крови, сочащийся со страниц.
Я изучал это, переводил это, а теперь проживал это. Точку, когда излишне любопытная дева открывает запретную красную дверь крохотным ключом – а ключ важен как свидетельство, нечто, отмечающее момент, где вы нарушили правила и должны быть наказаны в назидание.
Но сначала, сначала всегда нужно переступить порог. Нужно перевернуть страницу – и неважно, что каждая косточка в вашем теле жаждет остаться на месте, прежде чем бумага против вашей воли поднимется – вернуться вы уже не можете.
Я не мог вернуться.
Из-под кровати я уставился на угол своего отражения в старинном комоде, приставленном к стене спальни Индиго. Смотрел на себя, делающего тихие быстрые вдохи. Мой взгляд метался по её комнате, большой и на удивление аскетичной.
Десятилетний слой пыли покрывал пол, и в отражении в зеркале я видел новые пустоты там, где мои следы тревожили её покой.
У меня была какая-то детская уверенность, что если я не увижу себя, то и никто другой не увидит. Мои ладони были полны сокровищ – сосуд, в котором гремел зуб, и кассета… «Ты – мой любимый синий. С любовью, Лирик».
Моё лицо было наполовину скрыто кроватным подзором, когда туфли Индиго зашуршали по дереву. Я поборол короткий дикий порыв ухмыльнуться и подмигнуть своему отражению в зеркале. Так я играл со своим братом. Если моё лицо оставалось непроницаемым, это означало «Не двигайся». А если я улыбался, это значило «Беги».
Воспоминание о грубом жёстком ковре заменило холодные деревянные половицы подо мной. Призрачный сигаретный дым пробивался сквозь пылинки. Я оказался под кроватью моих родителей – семейная реликвия из полированного ореха. Рядом тяжело дышал брат. Я посмотрел на свои руки – ладони были пусты. Мои пальцы казались посиневшими, изогнутыми под неестественным углом.
– Где вы прячетесь? – смеялся отец.
Он обожал присоединяться к нашей игре в прятки. И едва заслышав его тяжёлые шаги, мы жались друг к другу, словно щенки. Мы с братом лежали лицом друг к другу. Я опустился, выставив ноги. Я хотел быть найденным.
– Ага-а! – воскликнул отец.
Я посмотрел на брата и улыбнулся. Беги.
Меня резко выдернуло из воспоминания – голос отца всё ещё звенел в голове. Индиго проговорила:
– Ты же не можешь прятаться вечно, правда?
Я не слышал, как она подошла ближе – должно быть, она сбросила туфли. Её светло-коричневые ступни были почти целиком скрыты подолом чёрного бархатного платья.
Я ждал, когда она наклонится, изогнёт шею, чтобы посмотреть на меня. Но она не шелохнулась. Её ступни были направлены к зеркалу.
Индиго отступила, повернулась к комоду. Сквозь прорезь в кроватном подзоре я увидел, как она уронила руку, прижала другую ладонь к нарисованному скворцу. Один за другим она открывала ящики, что-то ища. Я глянул на кассету в своей руке. «С любовью, Лирик».
Разочарованно вздохнув, она с грохотом задвинула ящик. Я видел лишь заднюю часть её голеней, гладких, бронзовых, всё ещё поблёскивающих от абрикосового масла, которое я втирал ей в кожу прошлой ночью.
– Никто не знает, – сказала она. – Ты принадлежишь мне. Я владею тобой – и телом, и душой. Пусть даже я вижу крохотные частички тебя повсюду, Кошачья Шкурка. – Индиго вздохнула и дёрнула себя за волосы. – Я вижу тебя в этой комнате в тенях, но в этом нет никакого смысла, ведь я убила тебя.
Голос Индиго был нежным, убаюкивающим – голос сирены. Таким голосом она говорила со мной несколько месяцев назад, когда я пролежал несколько дней в постели с температурой.
– Ах, Кошачья Шкурка, – пропела она, и её голос стал ровным. – Почему же ты до сих пор не мертва?
Глава двадцать первая
Лазурь
В спальне Индиго я уставилась на своё отражение в её массивном серебряном зеркале, украшенном листьями аканта и миниатюрными нимфами. Я старалась сосредоточиться на деталях – на полуприкрытых глазах металлического сатира, на изящной арфе, затерянной в сплетении сияющих радужек, – но не могла избежать собственного взгляда. И это зрелище нашёптывало, оживляло мои сомнения:
«Что, если Индиго ошибается? Что, если мы – не одна душа, аккуратно разделённая между двумя телами?»
Я не сомневалась, что мы – сёстры или даже, возможно, близнецы родом из некоего магического места. Когда ей было больно, я плакала. Когда у меня были кошмары, за меня кричала Индиго. Но между нами также был неровный шов, где наши мысли спотыкались в сходстве. Я касалась его вспухшего края больше года, силясь разглядеть, – то есть пока огни складского танцпола не высветили его целиком.
Индиго говорила, как ей отвратительно в том месте… но я, честно говоря, его обожала.
В последнее время я стала замечать объявления из колледжей, приколотые на доску в школе. Я задерживалась рядом, выискивая имена своих одноклассников. Мы с Индиго не подавали заявки на поступление. В этом не было смысла, ведь уже скоро мы трансформируемся.
Поступление в колледж у нас на острове было редкостью, и администрация с гордостью выставила список с горсткой студентов на старинной пробковой доске, украшенной золотыми бумажными звёздочками. Когда