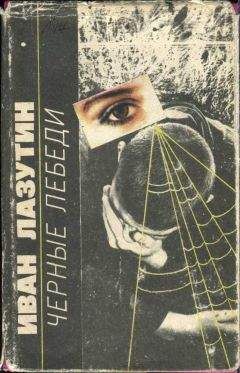Королева взмахнула рукой. Генералы напряжённо зашептались. Наконец Оберин произнёс:
— Но для такого перехода необходимо продовольствие, а в Гессе его нет. Неделя осады и там не останется даже крыс. Нет съестного и в округе. Всё что можно найти и вывезти — найдено и вывезено. Теперь у нас одна дорога — вернуться к морю. В Омане склады полны, а за топями нет ни земледелия, ни скотоводства. Чем дальше на Север, тем скуднее земли и холоднее климат. На что вы рассчитывали?
— Впереди лето.
Пряча за спиной трясущиеся руки, Оберин продолжал возражать:
— Слышал, в горах даже коротким летом чуть ли не каждую ночь идёт снег. И главное… армия уже голодает.
— Это моя армия, и если понадобится, она умрёт голодной смертью за королеву! — колючий взгляд серо-голубых глаз высверливал дыру в потном генеральском лбу. — Отправьте отряды на запад. В долинах есть селения, где остался прошлогодний урожай.
— Они вернутся через месяц.
— Как раз, когда мы достигнем Севера.
— Если доживём.
— Наши корабли в Омане уже грузятся продовольствием. Они поднимутся по реке.
— Разлив наступит лишь к началу лета. Сейчас корабли не пройдут пороги. Армия выживет, если только, не мешкая, отправится им навстречу, — не отступал генерал Оберин, вытирая потную шею насквозь промокшим платком.
— Неужели так считают все? — Гера прошлась холодным взглядом по лицам присутствующих. Ни единый звук не нарушил тишину. Словно это был не королевский шатёр, а родовая усыпальница заброшенного кладбища.
— Моя королева, — наконец подал голос герцог Гарсион, командир королевской элитной пехоты, высокий кареглазый старик в алом, расшитом золотом щегольском плаще, и до блеска надраенном позолоченном шлеме. — Вы обещали нам скорую победу.
— Вы обещали мне полное повиновение! — выкрикнула королева. — Что может быть глупее победы ради самой победы? Воевать ради венца, пусть даже золотого? Я и так по крови наследница этих земель. Кому нужна нищая территория, населённая глупцами? Мы пришли за богатством, и оно там, на Севере. Надеюсь, всем ясно?
— Но, моя королева… — слова Оберину давались тяжело, генеральские нервы сдали.
— Все свободны! — королева закончила совет.
Шатёр быстро пустел, и гнетущая тишина висела в нём, словно предвестница ненастья. От лёгкого сквозняка пламя свечи дёрнулось, едва не погаснув. Кто-то вошёл.
— Генералы не договаривают, но солдаты думают так же, — в тёмном углу показалась монашеская хламида.
— Что тебе, святейший?
Шаркая стёртыми сандалиями, поглаживая седую бороду, Иеорим произнёс:
— Вера принимается чернью, если она принята королями.
— Послушай, я устала, все озлоблены.
— Это понятно, — протянул старик, кряхтя как старый дверной замок: — Вы не посещаете по утрам молитвенный дом. Не склоняете колен вместе с солдатами перед Единым богом нашим. Воины ныне молят не о славной смерти на поле боя, и не о победе ради чести. Всё чаще они молят Единого о куске хлеба. Просят, чтобы рыба не ушла в верховье, и чтобы дождь не загасил костёр. Единый слышит их мольбы и просьбы, он с ними, в отличие от их королевы. Прискорбно сие, ваше величество…
— Достопочтенный Иеорим, — королева поднялась с плетёного кресла, гордо вскинула голову и рыжие волосы разметались по точёным плечам. — Наверное, ты забыл, что я сделала для тебя? Я провозгласила твою веру единой…
— Так было угодно Единому Богу.
— Так было угодно мне! — её глаза налились гневом. — Его святейшество видимо стал забывать, где он и его монахи преклонялись своему Единому при короле Лигорде? В голодных пещерах пустыни Джабах! Скудная кучка фанатиков… Может, желаешь обратно в пески?
— Если так будет угодно Богу…
— Или мне!
Иеорим оправил ветхие одеяния, подошёл к столу, положил затёртую, истрёпанную книгу в кожаном переплете, и уселся в кресло, на котором только что восседала королева.
— И всё же надеюсь, её величество, будучи наместницей Единого на этой земле, поступит именно так, как угодно ему. А угодно Господу нашему, дабы вера его крепла не только в славной и набожной Отаке, не только от святых Джабахских песков до великого Дубара, но и здесь, в этих диких болотистых землях. Слово божие да услышат страждущие от Гелей, до Синелесья, да проникнет оно в душу каждого — от богача до простолюдина. Единый Бог наш вездесущий не оставит заблудших геранийцев без покаяния. Никого не оставит не раскаявшимся. Даже вас, ваше величество.
— Кто же отпустит мне грехи? Не ты ли?
— На всё воля божья.
Кряхтя, монах поднялся из-за стола, встал перед королевой, скрестил на груди руки и, опустив глаза, кротко преклонил голову. Будучи ниже её ростом, всем своим видом демонстрировал покорность и повиновение. Лишь голос его твёрдый и властный нарушал смиренную идиллию:
— Солдаты идут в бой со словами: «За Корону и Веру». Как думаете, что случится со словом Корона, если из этого девиза убрать слово Вера? — Каждой фразой он пронзал, будто вбивал в стену гвоздь. — Не стоит экспериментировать. Короли смертны, вечен лишь Единый.
Старик развернулся и молча засеменил к выходу. Уже на пороге, по-отечески добавил:
— И всё же, ваше величество, мой вам совет — посещайте по утрам молитвенный дом. Будьте ближе к солдатам и к вере. Это всем пойдет на пользу. И богу и смертным.
Когда полог шатра опустился, и королева осталась одна, холодное чувство тревоги скользким змеиным жалом коснулось её сердца. Сейчас она думала не о голодающей столице и осаждённом принце Хорварде. Не о Бесноватом Поло, чьи головорезы, прячась в болотах, поджидают для нападения ночь потемнее. Сейчас королева думала о спящем в соседней палатке юном принце Брусте и об оставшейся на родине её пятнадцатилетней дочери Гертруде. И ещё о том, что нынче никто не защитит их кроме неё. Ни корона, ни вера.
Рука в кованой рукавице резко отдернула полог шатра, и в проёме показалась голова королевского денщика.
— Моя королева! Всадник…, - выкрикнул Домэник срывающимся голосом. — Из южных ворот выехал всадник! Один… на его копье белый флаг.
* * *
Когда тёплыми, чуть влажными пальцами она коснулась холодных каменных стен, тело затрепетало, забилось в болезненном ознобе. Словно прикоснулась к чему-то нереальному, к тому, что больше никогда не должно было появиться в её жизни. И всё же это случилось. Через двадцать семь лет скитаний девочка снова вернулась в отчий дом.
Просторная королевская палата уже не выглядела такой необъятной, какой казалась ей в детстве, и всё же Гера помнила её. Помнила массивные колоны, уходящие под куполообразный свод. Помнила высокие оконные витражи с пейзажами королевской охоты. Вот витраж с изображением прадеда, основавшего Цитадель. Вот бабка Зефира с малолетним Тихвальдом на руках. Перед самым широким окном дубовый геранийский трон, и изображение Змеиного Бога над ним. Она отчетливо помнила, как в детстве боялась смотреть в эти горящие рубинами змеиные глаза. Представляла, как Змей спускается со стены, неслышно подбирается так, что не слышит ни отец, ни мать, и вонзает свои длинные острые клыки в её горло. Холодный пот бил неокрепшее детское тельце так же как сейчас, когда она уже королева и не боится ничего. Но и тогда нельзя было бояться. Она же принцесса, единственная наследница омытого кровью врагов, дубового трона под краснооким Змеем.
— Отрадно вернуться домой, ваше величество, — услышала за спиной тихий голос Иеорима.
— Мой дом Отака.
— И всё же… — старец подошёл ближе, — вы уже побывали в верхних покоях?
— Я не поднимусь туда, где убили моего отца.
— Ваш отец был хорошим правителем…
— Мой отец был плохим правителем, потому что позволил себя убить. Но не скрою, он был хорошим отцом.
— Вы любили его?
— Разве может пятилетняя девочка не любить своего отца?
— Вы правы.
Старец стоял рядом. Долго не мигая вглядывался в кровавые змеиные глаза:
— Вам никогда не казалось, что этот их Бог в одно прекрасное утро, такое как сейчас, может впиться вам в горло? У меня сейчас именно такое ощущение. — Помолчав, добавил: — Вы в городе уже неделю, но не разрешаете снять это чудовище и предать огню. Почему?