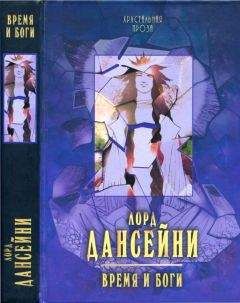Прервав долгое молчание, царь сказал:
— Пророки моего царства, вы пророчествовали всякий по-своему, и слова одного опровергали речи другого, а значит, нет мудрости между волхвами. Объявляю вам, и да никто в моем царстве не усомнится в том, что первые цари Зарканду, прежде чем воздвигнуть город и самый дворец, устроили винохранилище, и сейчас я повелю начать в этом зале пир, и увидите вы, что сила моего вина превыше ваших чар, а искусство плясуний — волшебней волшбы.
Плясуний и виночерпиев вернули назад, и в ту же ночь устроили пир, посадили за стол всех пророков — Самана, Ината, Монита, Инара, Туна, Пророка Скитаний, Зорнаду, Ямена, Пагарна, Илана, Улфа и того, что не успел сказать своего слова и не открыл еще своего имени (а лицо его было закрыто плащом).
Пророки веселились, как им было сказано, и вели беседы, как прочие гости, лишь тот, чье лицо оставалось сокрытым, не вкушал пиршественных блюд и не проронил ни слова. Только протянул руку и коснулся цветка, лежавшего на столе в ворохе других, и лепестки цветка сразу облетели.
А Трепещущий Лист все плясала и плясала, а царь улыбался, и Трепещущий Лист была счастлива, хотя и не владела мудростью волхвов. И Летняя Молния сновала между колоннами в прихотливом танце. И Серебряный Ручей кланялась царю и опять танцевала, и снова кланялась, и вновь танцевала, а старик Истан, сияя глазами, с трудом пробирался сквозь толпу плясунов в погреб и обратно, и когда царь вдоволь выпил вина старых царей, он подозвал Мечту Моря и повелел ей петь. Мечта Моря, подойдя к царю, запела о волшебном жемчужном острове, что лежит далеко на юге в рубиновом море, окруженном острыми рифами, о которые разбиваются мирские беды, и нет им доступа на остров. Она пела о том, как закатные лучи окрашивают море и чудесный остров пурпуром и никогда не уступают мраку ночи, и о том, как чей-то голос оттуда непрерывно зовет душу царя, что, зачарованная, сможет, миновав опасные рифы, найти отдохновение на жемчужном острове, где нет никаких забот, где горести и печали разбиваются об острые скалы. Потом поднялась Душа Юга и спела песню о бьющем из-под земли ключе, что мечтал достичь небес, но был обречен снова и снова падать на землю, пока наконец…
А когда рассвет погасил звезды, Эбалон, умягчившись то ли от искусства Трепещущего Листа, то ли от песни Мечты Моря, а может быть, от вина своих предков, отпустил пророков. Миновав освещенные факелами переходы дворца, царь вошел в опочивальню и, закрыв за собой дверь, увидел вдруг фигуру в платье пророка. Понял царь, что перед ним Тот, что прятал свое лицо и не открыл своего имени.
И спросил царь:
— Ты пророк?
А тот ответил:
— Я пророк.
Тогда царь молвил:
— А ведомо ли что тебе о странствиях царя?
А тот ответил:
— Ведомо, но я еще не сказал своего слова.
И царь вопросил тогда:
— Кто же ты таков, что, имея знанье, таишь его?
А тот ответил:
— Я есмь КОНЕЦ.
И сказав это, закутанный в плащ незнакомец скорыми шагами покинул дворец, а царь, не замеченный стражниками, последовал за ним в странствие.
Назначенная встреча
Перевод Е. Джагиновой
Где-то в вышине пела свои песни Слава, дурачась и развлекаясь мерзкими авантюрами, и на пути ей встретился поэт.
И поэт сочинял для нее куплеты песен, воспевающие ее шествие по дворцам Времени, а она проносилась сквозь толпы неистовых граждан, украшавших ее никчемными венками, сплетенными из бренной мишуры.
А чуть погодя, когда венки истлевали, поэт являлся к ней с новыми строфами, но, как заведено, она смеялась над ним и продолжала украшать себя бесполезными венками, которые всегда истлевали к вечеру.
И однажды поэт в отчаянии упрекнул ее, сказав: «О прекрасная Слава, даже на проторенных путях и на романтических аллеях ты не можешь удержаться от веселья, воплей и гримас в обществе этих никчемных людей, меж тем как я в поте лица тружусь на твое благо и мечтаю о тебе, а ты дразнишь меня и всегда проходишь мимо».
И Слава отвернулась от него и ушла, но на прощанье поглядела через плечо, улыбнулась как никогда прежде и еле слышно прошептала:
«Встретимся на кладбище на задворках работного дома лет через сто».
Харон
Перевод Е. Джагиновой
Харон налег на весла. Его переполняла усталость.
Не груз годов или веков, но бескрайние потоки времен да стародавняя тяжесть и боль в руках стали для него частью сотворенного богами миропорядка и составили единое целое с Вечностью.
Если бы хоть раз боги прислали ему ветер противоположного направления, все течение времени в его памяти разделилось бы на два равных куска.
Но таким невзрачным было все вокруг него, что даже если бы яркая вспышка выхватила из мира мертвых лицо царицы, подобной, скажем, Клеопатре, глаза Харона не разглядели бы его.
Странно, что умершие прибывают теперь в таких количествах. Раньше, бывало, приходило по пятьдесят, сейчас их — тысячи. Но ни в обязанности, ни в привычки Харона не входило занимать свою мрачную душу размышлениями о том, почему все так, а не иначе. Харон налег на весла.
Некоторое время на берегу было пусто. В том, что боги никого не прислали с Земли за такой промежуток времени, не было ничего необычного. Богам виднее.
Затем появился один. Маленькая дрожащая тень уселась на скамью, и огромная лодка отчалила. Только один пассажир — богам виднее.
И огромный усталый Харон повел лодку с маленьким, безмолвным призраком на борту.
И шум реки был подобен великому вздоху Скорби, что первая из своих сестер вздыхает по умершему, — вздоху, который не затихает подобно отзвукам человеческого горя, истаивающим на земных холмах, вздоху, древнему, как течение времени и боль в руках Харона.
Закончив свой путь по неспешной серой реке, лодка причалила к берегу подземного царства, и маленький безмолвный призрак, все так же дрожа, ступил на землю, а Харон развернул лодку обратно, в мир живых. И вдруг тщедушный призрак, бывший некогда человеком, нарушил безмолвие.
«Я — последний», — сказал он.
Никто прежде не мог вызвать у Харона улыбку, никому прежде не удавалось заставить его рыдать.
Смерть Пана
Перевод В. Кулагиной-Ярцевой
Достигнув Аркадии*[1], прибывшие из Лондона путешественники принялись оплакивать смерть Пана.
И вскоре они увидели его — он лежал неподвижно и тихо.