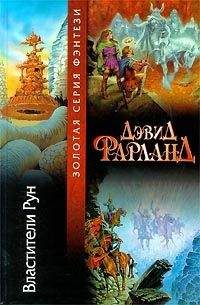Почти ушло это слово из языка. Недавно нарочно набрала его в Гугле, выпало: благородный олень, лавр благородный, благородные металлы и еще… попугаи, да. Что чаще всего запрашивают, то и выпадает.
Потому что нас разделяет бездна. Но не та, что у Вячека:
С бездной у ног,
со звездной над головой…
По-своему очень славный был стих.
не ной, не вой -
тверди урок:
не смыслом единым,
которого нет,
но жадно хотимым,
летяще на свет
Икаром, макаром -
любым – стрекозой
резной, кочегаром
над топкой сквозной…
Та-та-та, та-та-та-та… две бадьи…
Нет, это было уже в конце. Ничего голова не держит!
Франциском, распятым на коромысле…
А бадьи были у Франциска, полные нежности и птичьего свиста… Где-то записано ведь… Хотя сколько было порывов отнести это все на помойку. А вот же, лежит – то, чего, может, и у Вячека даже нет.
В последний раз он вернулся к ним в сентябре – в шестом Ксенькином классе. Вернулся и чуть не с порога: опёнки, куда покатим – в Испанию или Италию? Он тогда уже зарабатывал хорошие деньги, его уже приглашали и зарубежные университеты, там – семестр, тут – триместр. И с Ксеней, не выезжавшей дальше бабулиной дачи, стало твориться невероятное… А еще ведь в доме появился компьютер. И они вместе с отцом играли в “Цивилизацию”, расширяли владения, строили города – а, по сути, воздушные замки. Нет, игра развивала, конечно. Но Ксенька все принимала слишком всерьез… В Барселоне она отказалась от очень ей шедшего платья, взамен попросила сколько-то денег – он дал. Веер и кастаньеты вдруг тоже решила не покупать, но песеты на них взяла. Крохоборничала на всем, включая мороженое, и в самый последний день купила в подарок отцу изысканный галстук и дорогущий одеколон – просто так, до его дня рождения было еще полгода. Всю поездку льнула к нему, буквально не вылезала из-под руки. И все время требовала сфотографироваться с ним одним. В ресторане, хватая меню, первым делом спрашивала, чего хочет он. Видимо, инстинктивно решив, что мамины чары его уже не удержат, пленяла сама. Кокетничала, лолитничала… А когда от неопытности и егозливости просидела прокладку и бурое пятнышко выступило на джинсах – из Барселоны в Мадрид они двинулись на машине, в Сарагосе сделали остановку… и вот когда Ксенька это пятнышко ощутила и поняла, что отец его видел, она же все время неслась впереди – дело было в огромном, полупустом кафедральном соборе, посвященном Марии Пилар, с росписью Гойи на потолке (как же он назывался?), – Ксенька в ужасе плюхнулась на церковную лавку, по-детски надула щеки, губами сделали “пуф”, а потом в ней проснулась женщина, не проснулась – в этот миг родилась. Она поманила отца рукой, стащила с него ветровку, легко, повелительно, весело, повязала ее вокруг талии… и опять побежала – худышка, соломинка, длинноножка – нарочно играя бедрами. Бедер не было, а игра была. И даже пальцы в победном “v” вдруг выбросила над головой. Лера в ужасе обмерла. Но католики – после строгостей православной Москвы это было так странно – мило, с полуулыбками смотрели этой пацанке вслед. Ну а Вячек – тот разве только не мироточил. У них тогда с Ксенькой был настоящий роман.
С Лерой – нет… И не то чтобы он не старался. Он старался. И Лера старалась. Но кровотока одного на двоих больше не было. И сумасшествия по ночам, а за завтраком: ты о чем подумал? а ты – вот сейчас? Но зато он стал говорить: вы мой дом, вы мое место на этой земле, – предварительно, правда, граммов сто пятьдесят в себя опрокинув. Такая почти что за год отсутствия у него появилась привычка. Граммов сто пятьдесят – почему бы и нет? Но бежать из школы домой уже не хотелось, наоборот, зная, что Ксенька теперь под присмотром, хотелось отдать все накопившиеся долги, ведь одной писанины стало у учителей – головы не поднять, а нужно было еще и на новогодних репетициях посидеть, и литературный кружок с началом зимы как-то сам собою так хорошо возобновился: и старые все пришли, и четверо новеньких записалось…
А у Ксеньки с друзьями в ту зиму была игра – по сути, казаки-разбойники, но они ее называли “пеший квест”: одни рисовали планы и прятали клады, а другие по плану и стрелкам, начерченным на асфальте, заборах, на стенах домов, эти клады искали. А на детской площадке – через дорогу, в ближайшем дворе стояла избушка на курьих ножках, настоящий бомжатник (слава богу, в позапрошлом году снесли), и Ксенька зачем-то полезла в нее – по плану ей показалось, что клад лежит там. С фонариком, в четыре уже смеркалось. Посветила, еще не поняв, что там люди, а там – там был Вячек с какой-то своей, наверно, студенткой. Выпивали, наверное, целовались. Ксеня об этом – никогда, ни полслова. Вячек, конечно бы, тоже смолчал. Но Ксюха исчезла. Вернулась домой, разорвала те испанские фотки, на которых они были вдвоем, клочья высыпала на компьютерную клавиатуру, сверху положила фонарик – тоже, видимо, со значением… Уж лучше б взяла с собой! Лера пришла из школы без пятнадцати девять. Декабрь, слякоть, фонарь у подъезда разбит. Вячек меряет комнату, будто клетку. Что случилось? Молчит. Еще верит, что Ксенька вот-вот вернется.
“Приду в четыре, сказала Мария, восемь, девять, десять…”
С десяти до одиннадцати звонили подружкам и одноклассникам. В милиции трубку никто не снимал. С час рыскали сами – по подъездам, а когда получалось пролезть – по чердакам и подвалам. Все с тем же фонариком. Растревожили сквот пацанвы, получили в спину шквал пустых бутылок и банок. Лера разбила лоб, налетев на какую-то свисавшую с потолка железяку, Вячек порвал рукав куртки. Ближе к полуночи забежали домой, решив, что Ксенька могла ведь оставить записку. Перерыли все, заклеили пластырем лоб, поймали машину, сели сзади и все время держали друг друга за руки, суеверно боясь их расцепить, – словно были в этой сцепке и третьи ручонки, с заусенцами и обгрызенными ногтями. Ну а в милиции многое стало ясней. Лейтенантик спросил: причины-то были? Лера сказала: в том-то и дело, что нет. А Вячек вдруг – про избушку: понимаете, это, по сути, болезнь, и неожиданно произошел рецидив, хотя ничего ведь и не было, так – сидели, болтали, сыро, холодно, согревались чем бог послал, обсуждали ее диплом… “Рецидив, – писал лейтенантик, – название у болезни есть?” В обезьяннике выли бляди. Так дословно и выли: мы не бляди, мы путаны! Лера сказала: болезнь – эпилепсия, первое “э”, третья “и”, он, видимо, бился в конвульсиях, а дочь увидела и испугалась. “В конвульсиях”, – писал и кивал лейтенант. А потом в отделение пришла тетенька лет сорока, по виду нормальная бандерша, в чалме из мохера, с золотыми болтающимися часами. Открыла ящик стола, сунула туда сколько-то пятисотенных: есть у них регистрация! И лейтенантик, потянувшись, вразвалочку двинулся к обезьяннику: ну что, фанатки, “Спартак” – чемпион? Перепутал, наверно, фанаток с путанами. А Лера без спроса набрала их домашний номер. Без спроса и без надежды. Ксенька сонно сказала: ну вообще! ну вы где?