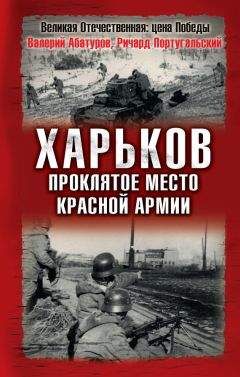Ганс перевел – со всеобщего на немецкий.
– Прошу прощения, милая фройляйн… – смутившись, пробормотал Клаус, его лицо пылало, а волосы торчали дыбом сквозь прорехи в окровавленной повязке. И добавил, уже на ломаном русском, выученном еще во время прошлогодних продуктовых вылазок. – Isfini mne… krasiffaya… Ya… tolko nado… tvoi cheloffek… dlya… rabota!
И, к Гансу уже взывая, прочувствованно выпалил:
– Ганс, да помоги же, осталось немного! Хочешь, на колени перед тобой стану?
Обессиленный Ганс вернулся, когда луна уже клонилась за горизонт.
Он очень боялся, что Аленушка не дождется. Но боялся напрасно.
Стоило его кудрявой голове оказаться под пологом колючего шатра, как Аленушка вскочила со своего сымпровизированного из шубы ложа и вытянула к нему худые руки. Потом как будто застеснялась, опустила взгляд. Откинула назад белые косы, сложила на коленях руки. Мол, вверяю себя тебе, мой завоеватель.
А когда она вновь посмотрела на Ганса, взгляд ее был пристальным, призывным. И Гансу показалось, что если бы сейчас царевна позволила поцеловать себя хоть один раз, то ни о чем более не жалел бы он до самой смерти. Ее живое тепло все искупило бы – даже ту ночь, когда он ел, для согреву обложившись трупами, вчерашний суп из кошатины. Оно стало бы всему – и дурному, и доброму – оправданием. Смыслом и причиной, омегой и альфой, как Христос.
Поймав за шиворот последнюю, нужно сказать, довольно крамольную с теологической точки зрения мысль, Ганс вдруг не на шутку испугался. И страх его был так силен, что бежать вдруг захотелось из этого чернильно-черного ельника, бежать со всех ног, пусть даже в самую пасть к русским, главное чтоб не к дьяволу. Но желание уже оцарапало ему душу, оно затягивало Ганса словно омут, и секунду спустя он уже утратил опору, вместе с самим желанием опору иметь, и тем, чем на опору следует опираться.
– Аленушка… – прошептал Ганс, от девушки мучительно отстраняясь. – Я могу… познать тебя чувственно?
– Да, – кивнула царевна.
– Только… нет у меня в этом деле… практического опыта.
– Пустое. Лучше поцелуй меня, – отвечала Аленушка и сладострастно к нему прижалась.
– Послушай, Аленушка, я только сейчас понял, зачем Провидению было угодно послать меня в Россию, – радостно сказал Ганс. – Теперь я знаю, что пришел за тобой. За моей невестой.
– Всякая война есть поход за невестами. За такими невестами, как я, – с улыбкой сказала Аленушка, и в этой улыбке сквозило неумолимо нечто великое и зловещее. Но Гансу было нипочем. Он уже стал безрассудным и неистовым.
Нежа белокожую Аленушку, терзая ее шею и грудь своими поцелуями, он словно бы с самой снежной Россией сопрягался, чьи запахи, глинистые и хвойные, снедные и кровяные, цветочные, ржаные, колодезные, ладанные и машинные, ржавые, крепдешиновые, одеколонные, он собрал все, собрал тощим своим животом, скуластым своим лицом, широкими ноздрями – уползая от смерти по-пластунски, отсиживаясь в черных воронках, шагая дерзко сквозь несжатые поля пшеницы и по клеверным лугам. Россией пахла Аленушка. А вовсе не рекой и даже не лилией.
– Ты не просто царевна-лебедь, ты лебедь-страна, – пробормотал Ганс, вероломно нарушая государственную границу.
– Так и есть, – сказала Аленушка и бриллиантовым нездешним светом озарились ее глаза. Таким светом сияют кремлевские звезды и самоцветы в окладах церковных икон.
– Я хочу остаться в тебе навсегда.
– Навсегда, – эхом повторила Аленушка.
А когда отстраненным, далеким стал ее блаженствующий взгляд, Ганс вздрогнул встречь ей всем своим мосластым телом и Аленушка впитала все лучшее, все самое немецкое, что было в нем. Но Гансу Бремерфёрде не было жалко.
– Да где же опять наш задохлик? – спросил фельдшер Хорнхель, пряча в сумку медицинский инструмент. До войны он был зубным техником.
– Милуется там со своей русской, – отозвался Глоссер. Его лихорадило, его трясло, он цеплялся за разговор, как за соломинку. А Хорхелю ничего не оставалось как товарищу эти соломинки подбрасывать – за отсутствием более действенных лекарств.
– Как ее хоть зовут, ты понял?
– Язык сломаешь, вот как эту шлюху зовут. Пусть Берг скажет. Он умный, в университете учился на профессора. Скажи нам, как ее зовут, Клаус?
– Идите к черту, – простонал Клаус. У него перед глазами стояло неотвязно злое, зыбкое видение – стена плотного голубого тумана, в точности такого голубого, как глаза девушки, что была с Гансом в ельнике. Странным образом, отрываться от созерцания этой стены ему не хотелось. И, казалось, чем больше смотришь, тем больше понимаешь в том, что происходит вокруг, почему происходит. Если смотреть достаточно долго, можно даже узнать, когда кончится война.
– Тебе что, жалко сказать как ее зовут? Клаус, алё! Ты меня слышишь?
– Alyenushka Tsarevna Lebed', – буркнул Клаус, чтобы отвязались.
– Ну вот, совсем другое дело.
– Некрасивое имя, сумасшедшее какое-то. Правда, русские любят все сумасшедшее. Ты видел эту их штуку… Samovar? Видел? Я тебе говорю, если где-то еще такие извращения есть насчет чая, то это только у китайцев, – заметил Хорнхель.
– Не пойму зачем это Гансу. Сидит там в ельнике. Продрог небось. Лучше бы с нами поговорил… Чертов предатель! – Глоссер треснул здоровой рукой о колено. На самом деле, он очень завидовал Гансу.
– Да оставь его. Лодка уже почти готова. До рассвета нужно отчалить.
Низко-низко прожужжал "рускартон", ночной бомбардировщик. Его неказистая при дневном свете фанерно-полотняная тушка раздулась во тьме до масштабов эпического сталинского сокола и уверенно, одну за другой, гасила звезды. Пилот наверняка заметил костер под крылом и наверняка порадовался: "Свои!"
– Да-а, нашел наш Иоганнес время для девок… – сквозь слезящийся прищур проследив за русской машиной, прокомментировал Глоссер.
– Да какая разница, какое время? У солдата должна быть невеста. Я рад за Ганса. Ведь, говоря по совести, кто еще ему даст кроме этой Alyenushka Tsarevna Lebed'? – рассудительно заметил фельдшер.
– Тоже верно, – Глоссер отер со лба пот и лицо его стало мечтательным. – Когда мы доплывем… Я хотел сказать, если мы доплывем, я буду приставать ко всем русским девкам, вообще ко всем…
– А у меня дома жена, – вздохнул Хорнхель.
Кожа на плечах, на спине Аленушки начала словно бы легонько пузыриться, набухать. Так растет тесто, так поднимается весенняя земля, которую вот-вот прорежут пробужденные талой водой зерна. Упругие лебединые перья росли прямо из предплечий, курчавились вдоль позвоночника, лоснились, распрямляясь, на упругих ягодичках. Однажды, высоко в Альпах, Ганс ездил туда в гости к кузине Анне, он видел целое поле, целое море кобальтовых, желтых, лиловых цветов, одновременно открывающих солнцу свои шелковые горстки. В чем-то главном похожая картина.

![Владимир Михайлов - Восточный конвой [ Ночь черного хрусталя. Восточный конвой]](https://cdn.my-library.info/books/67336/67336.jpg)