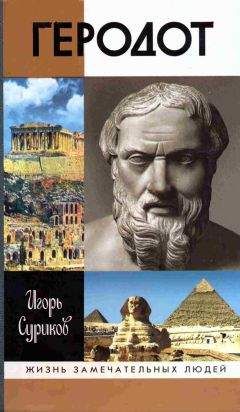— Его звали Майкл, — сказал констебль. — Ему было пять лет.
Доктор ничего не ответил. Упершись руками в бока, он поворачивался из стороны в сторону, пытаясь охватить всю панораму кровавой бойни. Лицо его выражало и какую-то зачарованность, и отстраненность. Он словно беспристрастно изумлялся абсолютной, чистой жестокости, свирепости и злобе этой атаки Антропофагов, как будто, отключив сердце и эмоции, он способен был смотреть на все это глазами ученого независимо от того, что сам он — человек. Так стоял он, живой храм среди руин, выражаясь фигурально, и что бы он ни думал в эту минуту, это осталось неведомым — спрятанным ото всех и вся — в священных глубинах его сознания.
Констебль, недовольный медлительностью Доктора в условиях чрезвычайной срочности, сказал нетерпеливо:
— Желаете осмотреть других?
И жуткая экскурсия продолжилась. Первой была спальня, где спали старшие дети. Там растерзанное туловище девочки, которую звали, как сказал нам констебль, Элизабет, лежало на подоконнике. Шелковые занавески, пропитанные ее кровью, хлопали при дуновении все того же легкого ветерка, и сквозь осколки оконного стекла я увидел весеннюю лужайку, залитую утренним солнцем.
— Они проникли через это окно? — спросил Морган.
— Возможно, — ответил Доктор, наклоняясь, чтобы изучить раму и осколки оконного стекла. — Хотя вряд ли. Скорее, через это окно скрылся наш свидетель, я так думаю.
Дальше Морган повел нас по коридору, где за углом мы обнаружили четвертую жертву, тоже изуродованную и обезображенную, с проломленным черепом и выскобленным мозгом. Куски и обрывки плоти были так же разбрызганы по стенам и полу и прилипли с кровью к потолку. Здесь же, на окровавленных досках пола, мы обнаружили первые следы Антропофагов, отпечатавшиеся в крови их жертв. Доктор издал торжествующий возглас, уткнулся носом в пол и замер, изучая следы несколько минут.
— От восьми до десяти по меньшей мере, — пробормотал он. — Следы самки, хотя вот этот и вон тот могут принадлежать и молодому самцу.
— Самки? Вы говорите, самки? Со следами больше, чем у взрослого мужчины?!
— Взрослая самка имеет рост семь футов от подошвы до плеча.
— О каких самках речь, Уортроп?
— О самках Антропофагов. Монстров-людоедов.
— Антро… попи…
— Антро-по-фаги, — повторил Доктор. — Плиний называл их Блеммиями, но Антропофаги — их научное определение, действующее ныне.
— И откуда, господи помилуй, они взялись?
— Их родина — Африка и некоторые острова Мадагаскара, — осторожно ответил Доктор.
— Далековато от Новой Англии, — сухо констатировал констебль и, сощурившись, посмотрел на Доктора в ожидании ответа.
— Роберт, даю тебе слово ученого и джентльмена, что я не имею никакого отношения к их появлению здесь, — ответил Доктор осторожно.
— А я, Уортроп, даю вам слово полицейского, что найду того, кто несет ответственность за эту бойню.
— Это не я, — жестко сказал Доктор. — Я шокирован не меньше, чем вы, Роберт, и не меньше, чем вы, намерен докопаться до правды, можете мне поверить.
Морган кивнул, но в голосе его звучало сомнение, когда он произнес:
— Мне просто кажется очень странным, что монстры вдруг объявляются именно в том городе, где живет самый известный в стране — если не во всем мире — монстролог.
И хотя сказано все это было очень мягко, от слов констебля Доктор окаменел и глаза его полыхнули негодованием.
— Вы называете меня лжецом, Роберт? — спросил он тихим голосом, в котором звучала угроза.
— Мой дорогой Уортроп, — ответил Морган, — мы знаем друг друга всю жизнь. И хотя вы самый скрытный и замкнутый человек, какого я знаю, и многое, что вы делаете, остается для меня загадкой, я никогда не слышал, чтобы вы произносили намеренную ложь. Вы говорите мне, что присутствие Антропофагов здесь шокировало вас, и я вам верю. Но моя вера не меняет того факта, что это совпадение — чрезвычайно странное.
— Я не упустил иронии в ваших словах, Роберт, — кивнул мой хозяин. — Можно сказать, странное и необъяснимое — это и есть моя профессия. А в этом случае хватает и того, и другого. — И быстро добавил, пока констебль не продолжил развивать эту тему: — Давайте посмотрим на остальных.
Мы вернулись по коридору к центральной комнате. Здесь, в уютной обстановке, семья собиралась по вечерам, чтобы послушать фортепиано и пообщаться, устроившись поудобнее в уютных креслах, в то время как холодный ветер завывал за окном. Теперь здесь лежал труп женщины с оторванной головой. Даже мертвая, она продолжала прижимать к себе то, что осталось от ее ребенка. Когда-то ее халат был белым, а теперь лежал, залитый кровью там, где раньше были ее ноги. Одну ногу мы нашли под окном, выходящим на дорожку, ведущую к дому. Другую не нашли, как не нашли и голову, хотя Доктор заставил меня искать со всей тщательностью, ползая на коленках по полу и заглядывая во все углы.
— Оба плеча вывихнуты, — констатировал Доктор. Он провел вниз по рукам женщины, умелыми пальцами обследуя ее все еще мягкую плоть. — Правая плечевая кость сломана — Теперь его пальцы сомкнулись на крошечном тельце. — Пять пальцев сломаны, два на правой руке, три — на левой.
Он попробовал вынуть ребенка из ее рук. Несмотря на трупное окоченение, ему удалось ослабить ее хватку и осмотреть тело ребенка, не вынимая его из ее замерзших рук.
— Множественные раны от проколов и разрывы, — сказал он. — Но тело цело. Младенец истек кровью, или его легкие были повреждены. Или мать задушила его, прижимая к груди. Жестокая ирония судьбы, если так… Насколько силен материнский инстинкт, Уилл Генри! Ей вывихнули плечи и переломали кости, но она так и не выпустила ребенка из рук. Она держала его, даже когда ей сломали руки и оторвали голову. Держала крепко! Даже когда она превратилась в жестокую имитацию тех, кто убил ее, она продолжала прижимать к себе дитя. Это — загадка и чудо.
— Простите меня, Уортроп, но я не вижу в этом ничего, что можно было бы назвать чудесным, — сказал констебль с отвращением.
— Вы неправильно поняли меня, — возразил Уортроп. — И вы судите преждевременно о вещах, о которых вам ничего не известно. Разве осуждаем мы волка или льва? Разве виним беспощадного крокодила в том, что он следует велению природы, создавшей его?
Говоря все это, Доктор исследовал кровавое месиво у себя под ногами. Теперь он выглядел отстраненным, его лицо стало непроницаемой маской. Что за чувства обуревали его под этим ледяным фасадом, если они вообще были? Напомнила ли ему эта чудовищная картина о его собственных словах, сказанных несколькими часами раньше, — что мистер Грей удовлетворил их голод на пару дней? О словах, произнесенных с характерной самоуверенностью и самонадеянностью? Или он не вспомнил этого вовсе? Я солгал бы, если бы сказал, что понимаю этого человека, которому был стольким обязан; этого человека, который взял бездомного, лишившегося родителей мальчика под свой кров и сделал из него того человека, каким я стал. Как часто они спасают или разрушают нас своими причудами, или планами, или тем и другим — эти взрослые, на чьи плечи ложится забота о нас и кому мы доверяем! Я честно признаюсь: я не понимаю его. Даже по прошествии долгого времени я не понимаю Доктора Пеллинора Ксавьера Уортропа. Неужели он действительно принял как исходное условие то, что он не имеет отношения к жестокому убийству шестерых невинных? Какой искаженной логикой он обладал, чтобы проигнорировать символическое значение крови семьи Стиннетов на своих руках? Или он просто смотрел на факты таким же равнодушным взглядом, какого удостоилась Элиза Бантон, чтобы добиться вывода, очевидного даже для двенадцатилетнего мальчика? Любая из этих теорий могла оказаться правдой — но ничего нельзя было прочесть на его непроницаемом лице. Он ничем не выдал себя, обследуя в тишине обезглавленную мать и мертвого ребенка у нее на груди. Они лежали у его ног, словно жертвы, принесенные кровожадному божеству.