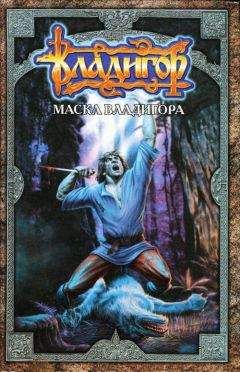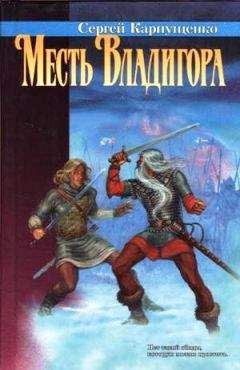Вкладывая меч в ножны, Владигор, с трудом переводя дыхание, сказал:
— Ладорцы, вы жестоко оскорбили меня! Я хотел быть вашим защитником, отцом вашим, теперь же, какие бы беды ни постигли вас, я не приду к вам! Вы отвергли меня, а я отвергаю вас! Сегодня же меня не будет в Ладоре!
И, быстро взойдя на крыльцо, он скрылся в черном дверном проеме.
Ладорцы долго стояли и молчали. Многие ощущали себя неправыми, а поэтому и переминались с ноги на ногу, вздыхали. Молчала и Любава, не зная, что сказать. Первым молчание нарушил Брон-купец. Снова поклонившись Любаве, он заговорил, и голос его звучал несколько смущенно:
— Любава, мы тут с лучшими людьми посовещались и бьем тебе челом — будь ты вместо Владигора правительницей нашей, защитницей и матерью, а то нам без власти княжеской как-то неловко, неуютно.
Любава, стараясь не смотреть на Брона, молчала долго. Негоже, думала она, соглашаться быть правительницей такого большого княжества, как Синегорье, когда жив настоящий князь, отказавшийся от власти лишь из-за обиды. Ведь и ладорцев можно понять — кому охота считать такого урода своим князем?
«Ладно, — решила она про себя, — может быть, передумает Владигор, вернется или и впрямь обретет прежнее свое лицо при помощи чар колдуна какого-нибудь. Сейчас же нужно соглашаться, ибо княжество без власти долго не живет…»
— Хорошо! — крикнула Любава. — Буду правительницей вашей, коль вы хотите, только…
Договорить она не успела. Крас со всегдашней своей насмешливой улыбкой появился из-за ее спины и, обращаясь то ли к княжне, то ли к народу, заговорил, удивленно всплескивая руками:
— Как же так, княжна Любава? Как же так, благородные ладорцы? Неужто вы забыли законы своей страны? Не боитесь стать посмешищем в глазах всех княжеств Мира Поднебесного?
Раздался сдержанный ропот — ладорцы не понимали, почему могут они стать посмешищем.
— Не понимаем речей твоих, чужестранец! — сурово вопросил Брон. — Что ж такое мы учинили, осмеяния достойное? Какие законы Синегорья забыли? Дай-ка ответ нам поскорей!
Крас снова всплеснул руками:
— Тем, несмышленые, нарушили вы древние законы, что не по праву власть передать вознамерились сестре Владигора, которого изгнали, но который за родного брата самой княжной Любавой был принят. Разве, спрошу, не говорила здесь Любава, что брата ее родного, Владигора, видите вы перед собой? Отвечай, Любава, не лукавя!
Любава тяжело вздохнула и сказала, уже понимая, куда бореец клонит:
— Да, говорила я такое, признаю…
— А раз признала ты в отъехавшем или только собирающемся отъехать из Ладора Владигоре брата родного, значит, согласишься и с тем, что княгиня Кудруна, дочь Грунлафа, за мужа будет властвовать, повелевать всем Синегорьем, ибо первенство супруги перед сестрой князя в вопросе этом на старинных законах зиждется и могла бы ты, сестра, владычествовать, если б у князя не было супруги. Или не так я говорю?
Любава понимала, что советник Грунлафа говорит истинную правду, но вдруг вспомнила, что вчера вечером, когда бродила она по переходам и коридорам княжеского дворца, он-то и намекнул ей, что на лицо Владигора можно ночью посмотреть. И значит, не случайно был послан с братом из Пустеня этот сладкоголосый человек, не случайно и Кудруну отправили с уродом Владигором, хоть и знали наверняка, что потерял уж он былую красоту свою.
«Да, говорила я Владигору: не езди в Пустень, — нет, не послушал он меня, вот и получили мы все подарок…» — глотая слезы, подумала Любава и, не отвечая Красу, во дворец пошла.
Граждане Ладора, никак не ожидая такого поворота дела, потоптались еще немного, поугрюмились, но, не решаясь покамест вынести ясный приговор всему случившемуся, когда и сама княжна Любава уклонилась от спора с чужестранцем, стали расходиться.
Дома они, сидя за полбой с вареной курятиной, за деревянной кружкой браги, вспоминали происшедшее возле княжеского крыльца, и далеко не всем казалось, что с уродом намеревались они поступить правильно, предлагая его прогнать, убить, вогнав в грудь ему кол осиновый.
— Худое дело сотворили сегодня, — признавались они женам своим. — Князя Владигора изобидели.
Жены хотели слышать в подробностях, что случилось, а потом укоризненно качали головами:
— Вот бы вас самих, козлов в портах, взять бы да и проткнуть колами, чтоб языки ваши поганые из пасти повылазили! Эк чего надумали, князя вурдалаком ругать! Князь на то и князь, чтобы ему харю иметь какую захочет. У вас-то, леших, рожи благолепны, что ли? Лесовики вы немытые, мохнорылые!
В тот же день, не успело еще солнце зайти за лес, раскрылись ворота княжеского дворца и на улицу выехал всадник. В кожаном чехле, справа от седла, приторочено что-то было похожее на птицу. Со стороны другой — сума с провизией, легкий шатер из плотного холста, скатанный в тугую трубку. Меч драгоценный в ножнах сафьяновых стучал при конском шаге о правое бедро наездника. Шлем блестящий, с бармицей, плескавшей по плечам витязя, надежно закрывал чело, а панцирь чешуйчатый — грудь и спину.
Те из ладорцев, которых дорогой до городских ворог встречал наездник, пристально глядели на него, но все по-разному провожали. Иные смеялись даже, показывали пальцем, кричали ему вослед, что-де не борейскому уроду править Синегорьем. Другие, в безмолвии провожая фигуру всадника, с сочувствием качали головами, а третьи кланялись ему учтиво, утирали слезы, но ни на кого не обращал внимания витязь, маской лицо закрывший. К запертым воротам подъехал. Стражник строго у него спросил:
— Кто таков? Куда путь держишь?
Глухо ответил всадник:
— Князь ваш, Владигор, уезжает из Ладора, навсегда уезжает…
Стража не посмела и слова поперек молвить — столько скорби было в хриплом голосе князя. В поле за ворота выехал, и долго еще смотрели воины, как ехал он не спеша куда-то в сторону заката, покуда совсем не скрылся в темноте. После ворота заперли надежно, в мыслях к Стрибогу, к Перуну обратились, чтобы даровали боги отчие удачу изгнанному князю, обиженному своим народом. Потом в избушке, что служила для них ночлегом близ городских ворот, за бадейкой с пивом, потолковали тихо о том о сем да и прикорнули, не разоблачаясь, на копья опираясь, на лавках, прислонивши покрытые железом головы свои к бревнам стен.
А в это время в княжеском дворце плакали навзрыд две женщины. Одна, которой уже лет сорок было, в горнице своей богатой слез не могла унять, жалуясь на судьбу, отнявшую у нее и у Синегорья брата, князя Владигора. Несчастней последней нищенки она себе казалась.
Но не ведала Любава, что двадцатилетняя Кудруна, волею сил темных превращенная в правительницу славного Синегорья, тоже не спала и ее обшитая мягким куньим мехом подушка тоже не просыхала.