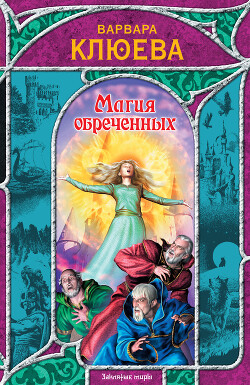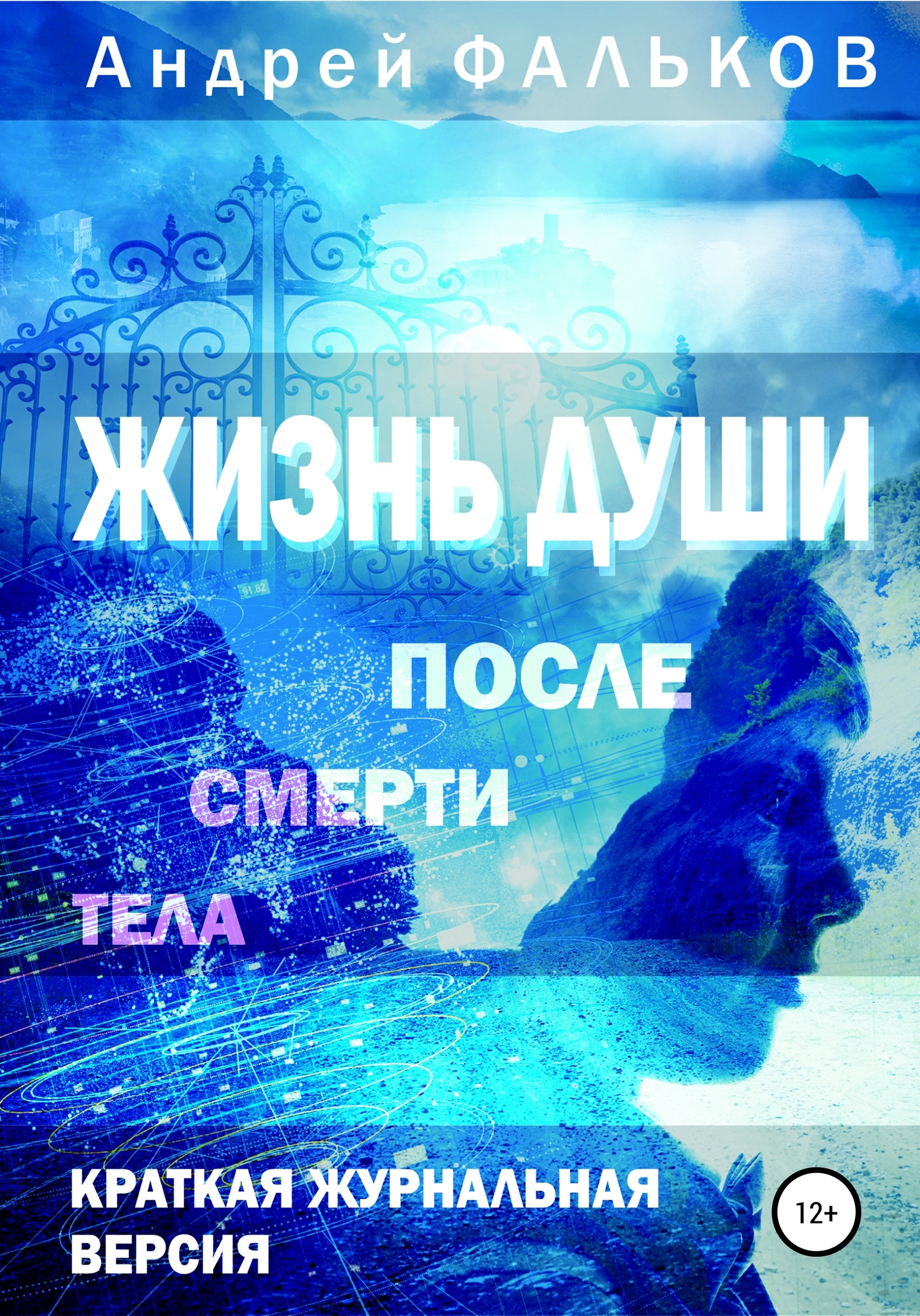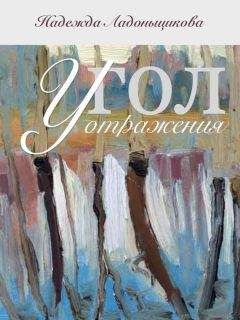Но и спуск Хайну страшил. Птичье чутье подсказывало, что внизу бушует буря. И с каждой саженью, приближающей землю, возрастал риск обо что-нибудь зацепиться или удариться. При буре любая ошибка становится смертельной.
Наконец Хайна решилась. Присобрала крылья, нырнула вниз головой и понеслась. Пять дюжин саженей, десять, двадцать… Ветер набросился на нее и швырнул в сторону. Едва Хайна выровняла полет, как ее накрыл следующий шквал, смял крылья, опрокинул, бросил вниз. Минутная передышка – и новый шквал. Потом еще, и еще. Хайну кружило и кидало из стороны в сторону, она уже не понимала, где правая сторона, где левая, где небо, где земля. И вдруг кружение кончилось. Ее подхватил и понес неведомо куда могучий воздушный поток. Прошла минута, другая, третья, а поток все не ослабевал, не менял направления. «Куда он меня тащит?» – заполошно подумала Хайна. И очнулась.
Точнее не очнулась, а перескочила в другую реальность. Легкое птичье тело, швыряемое из стороны в сторону порывами обезумевшего ветра, стало вдруг тяжелым, неуклюжим и совершенно неподвижным. Крылья превратились в неподъемные, словно свинцом налитые, руки. А может, это не руки. Руки ощущаются иначе. Они заканчиваются ладонями с чуткими пальцами, которыми можно ощупать себя и то, что находится рядом. Понять, теплое оно или холодное, гладкое или шероховатое, мягкое или твердое. А Хайна ощущала только тяжесть.
Остальные части тела вели себя не лучше.
Миновала целая вечность, прежде чем Хайна осознала, что лежит на спине, утопая в чем-то мягком и жарком, а тело ее покрыто испариной. Потом она вспомнила, что у нее есть глаза, и попробовала приподнять веки. Это осторожное движение – и не движение даже, а намек на него, – отозвалось неприятной резью, будто веки были присыпаны изнутри мелким песком. Хайна повела глазами в сторону, не открывая их. Резь сделалась нестерпимой, из-под век потекли слезы. Они скапливались в ложбинках у носа, просачивались потихоньку обратно, под пересохшие веки, и через минуту-другую резь прошла. Глаза открылись.
Сознание Хайны медленно впитывало увиденное. Впитывало, но не узнавало. Сначала ей показалось, что она лежит внутри поставленного стоймя гигантского яйца, верхушка которого расписана лиловыми и желтыми пятнами. По мере разглядывания лиловые пятна преображались в нарисованные резные листья, а желтые – в крупные гроздья ягод. Листья и гроздья сплетались в широкую узорную ленту, и, проследив глазами ее путь, Хайна обнаружила, что ее гигантское яйцо обрывается, смыкаясь с точно таким же яйцом, вырезанным сбоку. А все помещение сложено из четырех «яиц» с большими овальными отверстиями, состыкованными между собой так, что получались красиво изогнутые ребра-крылья. Оглядывая причудливый зал, Хайна медленно повернула голову и беззвучно ахнула. В двух шагах от нее, на ложе, застланном богатым покрывалом, подтянув колени к животу и сложив ладони под щекой, спала Лана.
Приглядевшись к ней, Хайна испугалась. Бабушкино лицо казалось таким измученным, таким постаревшим! «Что с ней? Какая злая хворь на нее напала? Нужно тотчас же ее исцелить! Потерпи, милая, я сейчас…»
Охваченная тревогой, Хайна забыла о собственной немощи, но та немедленно напомнила о себе, когда девочка оторвала голову и плечи от своего ложа. «Это не бабушка, это я расхворалась, – догадалась она, упав на подушки. – А бабушка опять выхаживает меня, не спит ночами, забывает поесть… Как тогда, в детстве, после того как меня привезли на Плоскогорье. Только тогда я, кажется, не была такой бессильной. Ох, Хозяйка! Неужто Бледная нежить в конце концов меня одолела?»
Хайна сосредоточилась, напрягла, как сумела, мышцы и сделала вторую попытку, еще менее успешную, чем первая. Ей удалось лишь дернуть головой да испустить слабый стон. Но ее стон разбудил Лану.
Лана открыла глаза, вытаращилась на внучку, приподнялась на локте и в один миг скатилась со своего ложа.
– Хайна! Внученька! Радость моя! О милостивая Хозяйка! Да будет благословенно твое имя! Ты вернула мне мою девочку!
Она бросилась к внучке. Сухонькие ладони щупали лоб, гладили щеки, плечи, руки Хайны. На лицо девочки падали крупные теплые капли, смешиваясь с ее собственными слезами.
– Ну что, что ты, ба? Не плачь! Все будет хорошо! Я скоро поправлюсь. Вот увидишь!
Привлеченная взволнованными голосами, в комнату впорхнула миловидная, ярко одетая девушка и с криком «Хайна! Ты жива! Жива!» – бросилась обнимать больную.
– Зельда? Это ты?! – Хайна не верила собственным глазам. Какой волшебник поколдовал над подругой? Круглая, по-детски пухлая мордашка удлинилась, черты утончились, тело же, напротив, округлилось, тонкие палочки рук обрели форму и плавность движений, острые углы плеч сгладились, под тонкой тканью платья угадывались очертания высокой девичьей груди. – Что с тобой случилось? Как тебе удалось так быстро повзрослеть?
– Быстро? А сколько, по-твоему, времени ты хвораешь? Уже целое солнце и две луны! Как ты нас напугала! Мы уже думали, что ты никогда…
– Будет тебе трещать, трещотка! – перебила Зельду Лана. – Лучше отправь кого-нибудь из слуг на половину владыки. Надо поскорее обрадовать Алмель. А сама сбегай на кухню, скажи: пусть они… Нет. Я сама.
– Куда тебе! Я обернусь мигом, а ты со своими больными ногами только к вечеру до кухни доковыляешь. Говори, что нужно. Какой-нибудь отвар? Мясной сок? Кисель?
Но Лана, косолапя и шаркая, уже семенила к двери.
– Ты что-нибудь забудешь или напутаешь. Или эти глупые кухарки сделают все по-своему. Лучше уж я прослежу.
– Вот упрямая! – Зельда махнула рукой и переключилась на Хайну. – Бедняжка! Какая же ты худая и бледненькая! Что-нибудь болит?
– Ничего не болит, просто сил совсем нет.
– Еще бы! Откуда им взяться, если ты целую вечность ничего не ела? Кто угодно ослабеет, если будет питаться только отварами да настоями. Или даже одним воздухом, потому что я не уверена, что нам с Алмелью удавалось хоть что-нибудь в тебя влить. Не меньше половины проливалось на постель. Нам приходилось менять ее после каждого кормления.
– А почему я захворала? – спросила Хайна. – И как очутилась здесь? Это ведь дворец владыки, да?
– Ты что, совсем ничего не помнишь? Совсем-совсем?
Хайна хотела в ответ покачать головой, но голова была тяжелой, как камень, а шея – неповоротливой и непослушной. Пока она боролась с немощью за обладание собственным телом, перед ее внутренним взором замелькали смутные тревожные образы и постепенно сложились в череду пугающих – да нет, что там пугающих – просто кошмарных картин.
Вот Лана, обливая Хайну горячими слезами, прижимает ее к груди и говорит, что они вряд ли когда-нибудь свидятся снова. Вот страшное, непохожее на себя лицо Алмели, к ее губам приложен палец, чтобы предупредить малейший звук со стороны ничего не понимающей Хайны. Вот темное тряское нутро фургона, а по углам – лишенные лиц фигуры, порожденные воображением перепуганной девочки. Вот взмыленные крупы лошадей, безумная гонка по бесплодной, каменистой равнине. Дрожащее оперение стрелы, вонзившейся в дорогу в нескольких саженях от лошадиных морд. Усатые лица хмурых всадников, обступивших повозку. Снова темное нутро фургона и окаменевшая Алмель, ледяная ладонь которой мертвой хваткой сжимает запястье Хайны. Бесконечные коридоры и залы дворца. Суровые гвардейцы и высокий дородный господин в парчовой одежде. Чернобородый красавец, прожигающий Алмель гневным взглядом. Брезгливая физиономия лорда Региуса, развалившегося в кресле. Алый вихрь, сбивший Хайну и Алмель с ног. Сверкание стальной молнии. Брызнувшая кровь и хрип лорда Региуса. Отвратительный оскал рыжего толстяка, взмах кинжала. Белое, как стена, лицо Алмели…
Хайна с трудом разлепила языком вмиг пересохшие губы.
– Алмель… жива? Этот жирный бабур не ранил ее?
– Бабур? – удивилась Зельда. – Ах да! Прожорливые чудовища размером с дом, которые живут в ваших горных пещерах. Ты еще не вполне пришла в себя, да, Хайна? Мы же на Плоскогорье, а здесь бабуры не водятся.