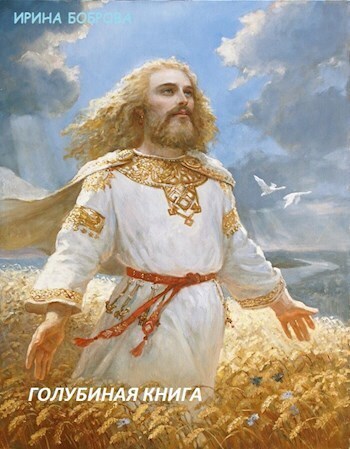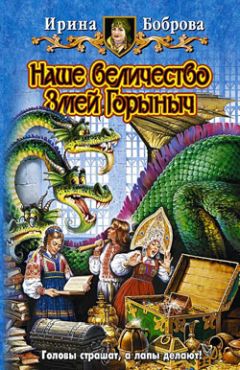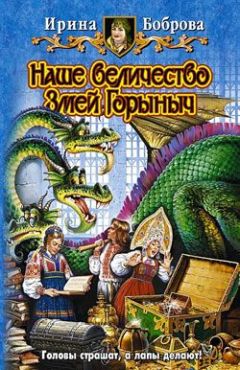Тебя латынская девка Маринка, чернокнижница и охальница, в тур — быка превратила. Потом ты от жены своей бегал, по Пекельному царству круги нарезал, а потом Усоньша тебя изловила да на водопой повела. Как она, адова огненная водичка, понравилась? Уж лучше ты нам расскажи, что случилось?
— Да сам не знаю, — сокрушённо вздохнул Услад. — Спал себе спал, вроде как не один, а с девицей, да такой раскрасавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сама высокая, ноги длинные, стройные. В нужных местах пышна, в нужных — тонка. Лицо белое, шея лебединная, а на шее — родинка чёрная. И на щеке тоже родинка. А волосы белые, короной на голове уложены, и локоны вдоль лица буклями висят. Лицо такое знакомое, такое родное…
— Что — то мнится мне, братец, будто ты Маринку, латынскую девку описываешь, — задумчиво проговорил Ярила. — А дальше что?
— А дальше просыпаюсь я, хорошо так кругом, прохладно, только во рту сушь несусветная, и будто кошки нагадили. Повернул голову — источник с сурицей бьёт. Ну, я руку протянул, зачерпнул горсть, жажду утолил. Чую, другая рука чем — то придавлена, голову поворачиваю — а там… — Услад зажмурился, головой потряс в ужасе, а Ярила за него продолжил:
— А там Усоньша Виевна, лебедь наша чёрная, на плече головой рогатой прилобонилась, лежит себе, во сне лыбится, а морда поди у неё счастливая — счастливая?! — И ну хохотать!
— Тебе смешно, — обиделся Услад. — А я такого страху натерпелся, пока руку из — под её тяжёлой башки выпростал. Всё разбудить дуру рогатую боялся. А тут ещё подушка из овчины сшитая, да странная — престранная: только шевельнулся, а она как завопит: «Поднимите мне веки!» А чего вы ржёте — то? Чего ржёте?! Я ту подушку кулаком ткнул, думал, умолкнет, а она как давай пуще прежнего орать: «Ой, лихо, лихо!» Тут Усоньша шевельнулась, а из — под неё как что — то выпрыгнет: маленькое, зубастое, когти что грабельки, да мне в лицо. Насилу отодрал от себя зверёныша! Отбросил существо неведомой породы подальше, а сам ноги в руки — и как дал дёру оттуда. Не знаю, как у корней дуба солнечного оказался, как по стволу взбирался, в себя только тут пришёл — вспомнил, что при своих божественных способностях в один миг мог бы в Ирий перенестись. Вот уж воистину такого лиха натерпелся, что не приведи Род!
А брат старший и отец трясутся, уже пополам от хохота согнулись, за животы держатся.
— Так ты ж Вия… князя Пекельного царства… за… за… подушку принял! — Объяснил сыну Сварог. — Эт надо ж, того гляди, все в Забвение сгинем, а этот глаз открыть самостоятельно не может, — и, вспомнив о беде, нависшей над всем божественным сонмом, Сварог захлебнулся смехом, помрачнел. Помолчал он немного, на сыновей оценивающе посмотрел и говорит:
— Вот что, сыны мои милые, сыны мои сметливые, разрешаю вам учинить любую шутку, организовать любую шалость! Какую хотите, можете каверзу учинить, но чтобы гости незваные тот час же убрались, и чтоб духу их в Ирие не было!
Ну, Ярилу с Усладом дважды просить надобности нет. Они и без просьб всегда готовы разыграть ближнего своего, да и дальнего тоже. Отец их ума приложить не мог, голову сломал, но способа выпроводить гостей не нашёл. А эти двое даже думать не стали! Они быстренько к Перуну Медноголовому подкатили, под локотки его взяли, да в сторону отвели. Он по Ирию в тоске и печали бродил, жену свою, Додолю искал. Голодный, как всегда, а оттого злой и раздражительный. Так что слова младших братьев легли на благоприятную почву.
— Всем ты хорош, братец, — начал Ярила, подмигнув Усладу.
— И лицом пригож, и нравом мил, а популярности у тебя в Ирие что кот наплакал! — Продолжил Услад.
— А с чем её едят, эту папу… папу… лярность? — спросил Перун очень заинтересованно. Интерес этот, правда, чисто гастрономическим был, но шутникам того и надо. — Додоля, жена моя, как гости понаехали, так дома не появлялась. Печка четвёртый день не топлена, я с голоду подыхаю, не поенный, не кормленый, а ей хоть бы хны! — пожаловался Перун младшим братьям. — Где эта ваша папу… папу… полярность, может, хоть на закуску пойдёт!
— Популярность не едят, — сказал Ярила, понимая, чем можно раззадорить медноголового брата. — Популярность, Перунушка, это такая штука, когда тебя все любят, а потому каждый норовит чем — то вкусным угостить.
— Едой? — уточнил Перун.
— Едой, — кивнул Услад.
— Давайте сюды! — взревел Перун, за последние четыре дня оголодавший до невозможности.
— Ишь ты, какой прыткий! — Осадил его Ярила. — Популярность, брат, просто так не даётся, её заработать надобно. Вот, к примеру, умом большим либо нравом ласковым да покладистым. Есть у тебя это?
— Не знаю, — озадачился Перун и поскрёб медную макушку. — Дома поискать надобно. Там кавардак такой стоит, может, что такое и отыщется.
Он развернулся и к терему направился. Ярила с Уладом как висели у него на локтях, так следом и поволоклись, едва ногами успевали перебирать. Положение спасать срочно требовалось, а потому Услад свою версию выдвинул.
— А ещё популярность песнями зарабатывают! — Крикнул он. — Пока ты в доме порядок наведёшь, времени много пройдёт, так можно и ноги с голодухи протянуть. А тут всё просто и, что самое главное, быстро: спел, сплясал — и сыт.
— Точно, — Ярила отпустил Перунов локоть, на травку сел да цветок сорвал. — Вон, видишь, народу сколько собралось?
— Ну, вижу, — кивнул Перун, вглядываясь в ту сторону, куда брат указал. Там, у горы Березани, Хорст Солнцеликий не то митинг устроил, не то лекцию. Народу собралось возле его терема тьма тьмущая. Все дети Свароговы там были, и внуки тоже присутствовали. Это Сварог через ласточек второе пожелание дедушки Рода передал. Да ни кому попало, а самому умному из детей — Хорсту. Велел любыми путями покой в стране поднебесной нарушить, искушений иноземных людям русским побольше подсунуть, да проследить, дабы они искушения эти отринули, в своей вере остались и своим богам преданность соблюли. О том старший сын Сварога сейчас родственникам и вещал. Услад глянул в сторону сборища, потом вниз уставился, поискал в вытоптанной траве глазами, но целых цветов не обнаружил. Тогда он сорвал травинку, сунул её в рот, пожевал задумчиво и сказал:
— Тебя ждут. Ты ж обещал концерт устроить, песен спеть, танцев станцевать, былин рассказать.
— Я?
— Ты. А тебя потом накормят от пуза, — подвёл итог беседы Ярила. И больше говорить ничего не пришлось: Перун сорвался с места и